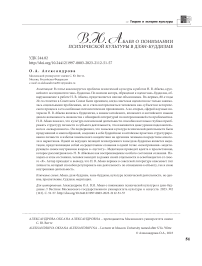В.Н. Абаев о понимании психической культуры в дзэн-буддизме
Автор: Александрова Оксана Александровна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (112), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется проблема психической культуры в работах Н. В. Абаева, крупнейшего исследователя чань буддизма. По мнению автора, обращение к идеям чань буддизма, обнаруживаемое в работе Н. В. Абаева, представляется вполне объяснимым. Во первых, 80 е годы 20 го столетия в Советском Союзе были временем, когда советская идеология не только занималась социальными проблемами, но и стала интересоваться человеком как субъектом исторического процесса в его особенных психологических проявлениях. А во вторых, сферой научных интересов Н. В. Абаева являлась буддология, а знание китайского, японского и английского языков давало возможность знакомства с обширной литературой по интересовавшей его проблематике. Н. В. Абаев показал, что культура психической деятельности способна настолько глубоко преображать структуру личности и субъекта деятельности, что изменяются даже уровни подсознательного и «невыразимого». Он подчеркивал, что чаньская культура психической деятельности была продуманной и многообразной, соединяя в себе буддийские и китайские практики структурирования личности и избегая химического воздействия на организм человека посредством алкоголя и наркотиков. Одной из ведущих позиций психотренинга чань/дзэн буддизма является медитация, представляющая собой сосредоточение сознания в одной точке «всматривания» медитирующего своим внутренним взором в «пустоту». Медитация приводит адепта к просветлению, которое рассматривалось Н. В. Абаевым как воспроизведение особого состояния сознания. Находясь в этом состоянии, человек выходит за рамки своей отдельности и освобождается от своего «Я». Автор приходит к выводу, что Н. В. Абаев первым в советской литературе описывает тип личности, который способен регулировать как деятельность по отношению к объекту, так и свою внутреннюю деятельность.
Абаев, дзэн буддизм, чань буддизм
Короткий адрес: https://sciup.org/144162686
IDR: 144162686 | УДК: 244.82 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-2112-51-57
Текст научной статьи В.Н. Абаев о понимании психической культуры в дзэн-буддизме
Культурное поле России всегда было многозначным, но если в настоящее время его сложность и многовекторность культурных паттернов воспринимается как данность социокультурной реальности, то в 70–80-е годы в Советском Союзе дифференциация культуры существовала в виде слабой тенденции, воспринимаясь скорее как негативное явление. Поэтому в советской гуманитарной мысли необходимо было, с одной стороны, показать специфику религиозной и социокультурной жизни другого народа, а с другой – не нарушить целостность и единство собственной культурной традиции, носившей во многом политический характер. В издававшихся представителями этой мысли монографиях, предназначенных не только для специалистов, но и для массового читателя, давались экскурсы в восточную философию и культуру. В этих монографиях предпринималась попытка донести до массового сознания новые идеи, возрождавшие гуманистические ценности собственной культуры и обнаруживающие истины поиска внутреннего знания. Поэтому вполне оправданным было обращение к буддизму, открывавшему дверь философии дзэн даже для людей, которые были далеки от него, вызывая у них неподдельный интерес.
В 70–80-е годы ХХ века в разных странах был осуществлён перевод многих дзэнских текстов, были опубликованы на английском языке работы Д. Т. Судзуки, появились статьи западных философов и культурологов, которые анализировали учение дзэн-буддизма. Были написаны произведения видных западных авторов, интерпретирующих идеи дзэн, а также развивались музыкальнее жанры, которые интегрировали эстетические принципы дзэн в европейскую музыку. Поскольку советская исследовательская мысль не могла не откликнуться на происходившие процессы, перед ней встала задача выявления источников дзэн-буддизма, а также – изучения его религиозной специфики и философского содержания.
Статья посвящена анализу дзэн-буддизма в работах Николая Вячеславовича Абаева (1949–2020), который известен в советской и российской теоретической мысли как буд-долог, востоковед, китаевед, а также исследователь чань-буддизма. Его кандидатская диссертация называлась «Соотношение теории и практики в чань-буддизме (на материале Линь-цзи лу, IX в. н. э.)», а докторская – «Чань-буддийские традиции в истории средневекового китайского общества». Большое внимание Н. В. Абаев уделял исследованию средневековой этнической религии тюркомонгольских кочевников, получившей название тенгрианства. Вообще в круг его интересов входили многие проблемы народов Востока, однако большая часть осуществлённых им исследований была связана с изучением дальневосточного буддизма. Поэтому неудивительно, что свои первые научные публикации Н. В. Абаев посвятил чань-буддизму. В 1983 г. появилась его монография «Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае», которая вызвала огромный интерес и к исследуемой проблеме, и в целом к культуре дзэн [1].
Обращение к идеям чань-буддизма, обнаруживаемое в работе Абаева, представляется вполне объяснимым. Во-первых, 80-е годы ХХ столетия в Советском Союзе были време- нем, когда советская идеология не только занималась социальными проблемами, но и стала интересоваться человеком как субъектом исторического процесса в его особенных психологических проявлениях. Во-вторых, сферой научных интересов Н. В. Абаева со студенческих лет являлась буддология, а знание китайского, японского и английского языков давало возможность знакомства с обширной литературой по интересовавшей его проблематике. Возобновившийся в это время диалог культур вызвал общественную необходимость понимания этносоциальных, исторических и культурологических процессов. Этой общественной необходимости отвечала монография Н. В. Абаева, ставшая популярной среди образованных слоёв общества.
-
Н. В. Абаев концептуально объединяет идеи чань-буддизма и дзэн-буддизма. Это связано с действительной теоретической и практической близостью этих направлений, и также с тем, что основные положения психической культуры, сформулированные в чаньских текстах, мы можем исследовать благодаря Д. Т. Судзуки: «Главной заслугой Д. Т. Судзуки, который фактически открыл это самое парадоксальное явление (культуру чань-буддизма. – О. А .) не только для исследователей, но и для широкой европейской публики, является то, что он перевел сугубо эзотерические категории чань-буддизма на экзотерический язык, более или менее понятный европейскому читателю» [1, с. 21].
Н. В. Абаев исходит из того, что культура психической деятельности играет важную роль как в историческом развитии, так и в развитии отдельной личности. Её значение обусловлено тем, что она, во-первых, является составной частью метакультурной деятельности и выполняет общие для всей культуры анти-энтропийные функции; во-вторых, содействует гармоническому балансу индивидуальнопсихических и социально-культурных компонентов, результатом которого является наполняемость культуры творческим содержанием; в-третьих, способствует повышению устойчивости социально-культурной тради- ции, а также, в четвертых, совершенствует программы психологической саморегуляции человека, играющие важную роль в условиях ускорения общего ритма жизни человека и стрессовых нагрузок на его психику [1, с. 7, 9, 157–159]. Культуру психической деятельности Н. В. Абаев определяет как «совокупность способов психической деятельности, зафиксированных в культуре и предписываемых ею в целях реализации культурно-одобряемого психического развития методов изменения режима функционирования психики и её перехода на качественно новый уровень, способов передачи этих методов по традиции, а также как саму психическую деятельность индивида, освоившего данную культуру, т. е. деятельность, ставшую уже (по отношению к данной культуре) культурной» [1, с. 12].
Следует отметить, что сама постановка проблемы культуры психической деятельности была новаторской. До выхода работы Н. В. Абаева о психологической культуре личности психологи говорили в контексте психологического развития человека и ребёнка [2], [3], [4], [5]. Что касается исследований, посвящённых непосредственно психологической культуре личности, то они появились гораздо позднее, в начале XXI века, и в них мы видим те же аспекты культуры психической деятельности, о которых говорил Н. В. Абаев,– теоретико-концептуальный и практический. Первый из этих аспектов связан с результатами теоретической деятельности и представляет собой отрефлексированное выражение метакультурной деятельности, а второй – с деятельностью самопознания человека [9].
Н. В. Абаев показал, что культура психической деятельности способна настолько глубоко преображать структуру личности и субъекта деятельности, что изменяются даже уровни подсознательного и «невыразимого». Он подчеркивал, что чаньская культура психической деятельности была продуманной и многообразной, соединяя в себе буддийские и китайские практики структурирования личности. Для достижения необходимого состояния использовались диалоги-поединки
(кит. вэнь-да, яп. мондо), требующие решения неразрешимой на логическом уровне задачи (кит. гун-ань, яп. коан), виды военноприкладного искусства (борьба, фехтование и пр.), повседневные хозяйственные работы (кит. пу-цин – «просьба всем [выйти на работу]»). В чаньских/дзэнских психопрактиках широкое применение имела шокотерапия, ставшая известной образованной публике Советского Союза после выхода книги Н. В. Абаева. Он показал, что метод шокотерапии применялся очень осторожно и избирательно в том случае, когда психика адепта была фактически подготовлена для прорыва к просветлению [1, с. 110–113]. Все эти формы психопрактики основывались на принципе у-вэй – не-деяния. Н. В. Абаев был одним из первых мыслителей советского периода, кто постарался разъяснить сущность этого важного принципа чаньской/дзэнской культуры. Принцип не-деяния заключается в том, чтобы адепт оставался совершенно беспристрастным и при этом как бы незаинтересованным в результатах деятельности. В качестве примера Н. В. Абаев приводит высказывание Линьцзи, утверждающего, что человек, соблюдающий «Не-деяние-в-деянии, может тратить в день по 10 тысяч лянов золота, не создавая при этом никакой кармы» [1, с. 129].
В последней трети XX века концепция не-деяния стала востребованной как в зарубежной, так и в отечественной мысли. Усложнение экономических, политических и культурных связей общества потребовало от государств и народов выработки новых стратегий поведения, а также – новых подходов к пониманию происходящих процессов, и принцип у-вэй предлагал новое содержание пути цивилизационного развития. И западные страны, и Советский Союз, нацеленные на техногенное преобразование мира, столкнулись с трудно разрешимыми задачами, в частности экологическими. Всё это потребовало знания тех идей и представлений, которые ещё не культивировались в западном и российском менталитете. Такие идеи, представленные и впервые проанализированные на глубоком философском уровне в монографии Н. В. Абаева, показали ограниченность антропоцентричного подхода, который преобладал в западной философии.
Личность, «выстраиваемая» по принципам понимания мира и человека в чань/ дзэн-буддизме, предполагает особую практику психологической тренировки. Одной из ведущих позиций психотренинга чань/ дзэн-буддизма является медитация, представляющая собой сосредоточение сознания в одной точке «всматривания» медитирующего своим внутренним взором в «пустоту». Подробно рассматривая процесс медитации, Н. В. Абаев выделяет её необходимые этапы. На первом этапе необходимо уделить внимание нормализации физиологических процессов с применением релаксации и дыхательных упражнений, и только на втором этапе человек добивается умения свободно двигаться от одного объекта к другому, не следуя мыслям, порождаемым разумом медитирующего, что позволяет отражать объекты с максимальной адекватностью. Такое состояние, отмечает Н. В. Абаев, называется в чань-буддизме «у-во», «не-Я», «отсутствие индивидуальности». Только теперь чань-буддист перестаёт быть наблюдателем своей собственной деятельности и постигает «пустотность», «отсутствие собственной независимой сущности» всех вещей и явлений, всего феноменального – внешних объектов, так называемых живых существ (кит. чжун-шэнь) своей собственной природы, а также – «пустотность самой пустоты» [1, с. 84]. В чаньской/дзэнской медитации акцент делается на внутренней самодисциплине, которая обеспечивает единство и гармоничное взамодействие сознательного и подсознательного уровня психики, что и раскрывает «истинную» природу человека. Апелляция к природному началу человека, его активизация и свобождение от социальной и рациональной обусловленности приводит к особой эмоциональности «просветления», что и является для адепта высшей точкой практики самоусовершенствования. В этом состоянии человек действует из «глубины»
своего существа и испытывает эмоции, которые выражаются в различных формах, которые не всегда одобряются культурой.
Медитация приводит адепта к просветлению, природа которого до сих пор не ясна в полной мере учёным. Существует точка рения К.-Г. Юнга, который полагает, что сущность данного явления не может характеризоваться ни как образное, ни как понятийное представление, ни с позиций подлинности, ни с позиций ложности [6, с. 9]. Э. Фромм утверждает, что к данному феномену вообще нельзя подходить с позиций истинности [8, с. 96]. К. Уилбер полагает, что просветление представляет собой состояние космического сознания, когда расширение личности включает в себя Всё, и называет опыт обретения космического сознания мистическим [7, с. 74]. О медитации и просветлении как о работе с нейронной сетью, открывающей другие состояния и миры, говорит Т. В. Черниговская – один из ведущих нейролингвистов нашей страны [10].
В отечественной философии Н. В. Абаев был одним из первых, кто постарался выявить природу просветления как метода психической регуляции личности. Он трактовал просветление как воспроизведение особого состояния сознания, сходного с «феноменом творческого вдохновения, которое охватывает чаньского адепта как бы самопроизвольно, без видимых усилий с его стороны» [1, с. 113]. На основе глубокого изучения текстов школы чань- и дзэн-буддизма. Н. В. Абаев показывает, что при необходимой подготовке человека прорыв к просветлению происходит в любой момент и в любой ситуации: и во время психотренинга, и в обыденной жизни, когда человек занимается повседневными делами. Более того, просветление, достигаемое адептом в обычной жизни, в процессе ежесекундного взаимообмена с социальным и природным миром, трактуется как более предпочтительное, поскольку природа человека изначально чиста и истинна, и исправлять и дополнять её нет необходимости. Следовательно, просветление приходит само и не требует «ни изнурительного аскетизма, ни специальной практики, ни длительного восхождения по многочисленным ступеням совершенства [1, с. 119]. Это не означает, что человек не должен заниматься психопрактиками; просто не следует быть преднамеренным в своем желании достичь их.
Пытаясь подойти к рассмотрению феномена просветления с философских позиций, Н. В. Абаев характеризует его как состояние единства субъекта и объекта. Соглашаясь с Д. Т. Судзуки, он утверждает, что тождественность субъекта и объекта носит условный характер, поскольку «слияние подразумевает наличие отдельных и независимых друг от друга сущностей (т. е. субъекта и объекта)». А в данном случае, скорее всего, имеется в виду восстановление изначальной целостности, которая и есть исходное состояние бытия [1, с. 135]. Медитация приводит к тому, что человек выходит за рамки своей отдельности, освобождаясь в просветлении от своего «Я». Н. В. Абаев указывает, что стремление примирить два начала – субъект и объект – в чань/дзэн, как и в целом в буддизме, происходило как на уровне отдельного человека, так и на метакультурном уровне, в котором снимались психологические преграды между человеком и природой. В состоянии просветления человек достигал единения со всеми живыми существами, во взаимодействии с которыми происходила его адаптация в мире: «Внешняя двойственность и маргинальность человека между миром живых существ и состоянием сверхличного единства бытия проявляется в том, что, с одной стороны, состояние человека есть всего лишь переходная ступень (равно как и все другие формы бытия) к состоянию буддовости, а с другой – это редчайшее состояние, единственное, дающее возможность вырваться из бесконечной ‟цепи смертей и рождений‟, из кармически обусловленного мира мучительного воздействия за все ‟неблагие‟, с точки зрения буддийской этики, слова и поступки» [1, с. 137]. Поэтому идея спасения в психопрактике буддизма относилась не только к человеку, но и ко всему явленному миру, цель которого заключалась в прекращении феноменального существования. При этом чань-буддисты старались избегать крайностей в понимании принципа «ненанесения вреда» всему живому, присущего буддизму, и включали природу как равноправного партнёра в свои отношения с миром. Это обеспечивало сохранность природных ресурсов, позволяя в то же время использовать их в практической деятельности.
Указанные моменты дали возможность школе чань и её адептам «вписаться» в традиционную китайскую культуру, в которой трудовой деятельности придавалось огромное значение, а также способствовали разработке психопрактик, направленных на решение прикладных задач, которые стоят перед человеком в любой сфере деятельности, особенно в экстремальных условиях.
Таким образом, Н. В. Абаев по существу первым в советской исследовательской литературе описывает тип личности, который способен регулировать как деятельность по отношению к объекту, так и свою внутреннюю деятельность. Он показывает, что в школе чань субъект деятельности выступает одновременно объектом деятельности, так же как и внешние объекты. Несмотря на то, что указанное выделение объекта носит относительный характер, «так как один и тот же феномен в разных ситуациях может выступать или не выступать в качестве объекта», индивид имеет больше возможностей регулировать свое психосоматическое состояние, а, следовательно, управлять им [1, с. 142]. В результате таких практик снимается противоречие между постоянно изменяющимся объектом внешнего мира, которое происходит в силу его собственного развития, и дискретным характером процесса реагирования на этот объект, когда в сознании формируется его нужный образ. Иными словами, проблема познания и понимания для приверженцев чань решается не путём отражения в сознании объекта и изменения его в практической деятельности, а путём выхода за рамки субъектно-объектных отношений. Для нагляд- ности данного положения Н. В. Абаев цитирует Д. Т. Судзуки: «В стрельбе из лука стрелок и цель не являются больше противопоставленными объектами, становятся одной реальностью. Стрелок перестаёт осознавать себя, подобно человеку, которому нужно поразить быка, неожиданно возникшего перед ним, прямо в глаз. Это состояние неосознанности реализуется только тогда, когда, совершенно опустошённый и избавившийся от своего «Я», он сливается воедино с процессом совершенствования своего мастерства» [1, с. 144].
Список литературы В.Н. Абаев о понимании психической культуры в дзэн-буддизме
- Абаев Н. В. Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае: учебное пособие. Новосибирск: Наука, 1983. 133 с.
- Бодалёв А. А. Личность и общение. Избранные труды: учебное пособие. Москва: Педагогика, 1983.271 с.
- Бодалёв А. А. Психология о личности: учебное пособие. Москва: Изд-во МГУ, 1988. 188 с.
- Выготский Л. С. Психология развития человека: учебное пособие. Москва: Смысл; Эксмо, 2005. 1136 с.
- Выготский Л. С. Психология развития ребенка: учебное пособие. Москва: Смысл; Эксмо, 2005. 512 с.
- Дзэн Буддизм. Судзуки Д. Основы Дзэн- Буддизма. Кацуки С. Практика Дзэн / пер. с англ: учебное пособие. Бишкек: МП "Одиссей", Гл. ред. КЭ, 1993. 672 с.
- Уилбер К. Краткая история всего / пер. с англ. С. В. Зубкова: учебное пособие. Москва: АСТ: Астрель, 2006. 476 с.
- Фромм Э. Дзэн-буддизм и психоанализ: пер. с англ.: учебное пособие. Москва: АСТ: Астрель, 2011.100 с.
- Коломинский Я. Л. Психологическая культура личности [Электронный ресурс]. //Психологическая культура личности. URL: https://elib.bspu.by/bitstream/doc/46282/1.
- Черниговская Т. В. В поисках сознания [Электронный ресурс]. // URL: https://newstylemag.com/interviewtatianachernigovskaya.