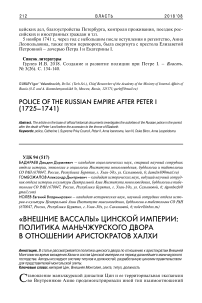"Внешние вассалы" Цинской империи: политика маньчжурского двора в отношении аристократов Халхи
Автор: Бадараев Дамдин Доржиевич, Гомбожапов Александр Дмитриевич, Нолев Евгений Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается политика цинского двора по отношению к аристократам Внешней Монголии во время вхождения Халхи в состав Цинской империи и в период дальнейшего маньчжурского господства. Авторы исследуют систему титулов и должностей, разработанную цинским правительством для представителей монгольской элиты.
Империя цин, внешняя монголия, элита, титул, должность
Короткий адрес: https://sciup.org/170170798
IDR: 170170798 | УДК: 94 | DOI: 10.31171/vlast.v26i8.6068
Текст научной статьи "Внешние вассалы" Цинской империи: политика маньчжурского двора в отношении аристократов Халхи
Становление маньчжурской династии Цин и ее территориальная экспансия во Внутреннюю Азию продемонстрировали иной тип взаимоотношений кочевников и земледельческого Китая. Правители династии Цин объединили оседлое и кочевое общества в одно целое, создав при этом действенную систему двойного управления. Прагматичный подход позволил им совместить вместе несколько традиций: маньчжурскую знаменную систему, централизованную бюрократию, тибетский буддизм и монгольскую систему управления [Elliot 2001; Elverskog 2006]. Господство империи Цин, по мнению ученых, базировалось не только и не столько на военном потенциале маньчжуров, сколько на восприятии приграничных регионов как важных форпостов и стратегических территорий [Perdue 2005], а не как предмета колониальных притязаний. Более гибкое отношение к подвластным территориям отразилось в отношении к элите покоренных народов, адаптируемых в имперскую административную систему. Цинская администрация направляла значительные средства в приграничные области, развивала транспортную сеть, поддерживала и расширяла торговые связи.
В 1990-х гг. за рубежом были опубликованы работы, посвященные отдельным вопросам истории Цинской империи (Evelyn Rawski; Pamela K. Crossley; P. Perdue и др.), в которых впервые ставился вопрос о ревизии устоявшихся взглядов на историографию Китая. Господствовавшая ранее концепция включала представления о полной культурной ассимиляции завоевателей и восприятии иноземными династиями конфуцианской модели управления. По мнению представителей ревизионистской школы, правление династии Цин в Китае имеет принципиальное отличие от более ранних династий завоевателей. Такой подход обозначил новое направление исследований, которое позже будет обозначено как «новая история Цин» ( New Qing history ).
Новая интерпретация маньчжурского наследия свое развитие получила в работе Марка Эллиота «Маньчжурский путь: восьмизнаменная система и этническая идентичность в поздний период империи Цин». Автор, исследуя уникальную систему военной и социальной организации – восьмизнаменное войско, подчеркивает сложное сплетение конфуцианских представлений о легитимности власти и «этнического суверенитета» маньчжуров.
В соответствии с концепцией раннего модерна в едином понимании выстраиваются исторические процессы, происходившие как на Западе, так и на Востоке. С этой точки зрения осмысление роли и значения Цинской империи рассматривается в широком контексте исторической динамики государств на евразийском пространстве (проведение параллелей с современными ей империями: Османской, империей Моголов, Российской). Это должно, по мнению исследователей, расширить общее понимание сущности и природы империй, имперского дискурса и многих вопросов, связанных с переходом к эпохе Модерна. Цинская империя рассматривается не столько как очередная иноземная династия в Китае, но и как евразийская имперская держава, сумевшая преодолеть и существенно расширить границы традиционного Китая. Исторический успех маньчжуров был продиктован тем, что была выстроена оригинальная система управления завоеванными народами, основу которой составили не традиционные китайские институты, а наднациональные, в полной мере отражающие имперский характер власти.
В связи с этим большое внимание исследователями было уделено процессам аккультурации, реконструкции механизмов формирования этнической идентичности и культурной устойчивости маньчжуров и других неханьских народностей. Для изучения данных вопросов привлекать источники, написанные только на китайском языке, было явно недостаточно. Преодоление тенденциозности китайских источников, признание равноценности источников на маньчжурском и других языках как дополняющих, а в отдельных случаях
– являющихся альтернативными в освещении отдельных сторон и конкретных событий и теоретические достижения политической антропологии позволили выявить особенности, структуру и характер управления «внешними территориями».
Наиболее ярко мультикультурный имперский подход в системе управления был реализован по отношению к вассальным территориям: Внешней Монголии, Тибету, Цинхаю и Синьцзяну. Все они управлялись несколькими различными типами административных структур, при этом сохранялись и существовавшие местные институты власти. Важным моментом при этом является то, что переписка центральных и местных властей осуществлялась не только на китайском языке. Привлечение данных материалов на языке оригинала позволяет реконструировать многие скрытые аспекты взаимоотношений различных уровней власти, раскрыть собственные взгляды подчиненных народностей в отношении империи, которые невозможно почерпнуть из официальной китайской историографии. Представители направления новой истории династии Цин активно привлекают источники на языках неханьских народов – маньчжурском, монгольском и тибетском.
Положение халхаских аристократов в структуре правящей элиты Цинской империи реконструируется на основе изучения архивных документов Национального архива Монголии, где были обнаружены ценные тематические материалы, представленные таким документом, как «Перечень вновь утвержденных званий и титулов в четырех наместничествах Халхи – хан, ван, бэйл, бэйс, гун, дзасак, тайж», а также материалами по истории ургинских амбаней, крупных титулованных князей и религиозных лидеров1. Нормативное закрепление нового положения халхаской элиты в имперской правящей иерархии отражено в «Цааджин бичиг» («Монгольское уложение») – своде маньчжурских законодательных актов для монголов. Административная стратегия маньчжурских правителей, рассматривающих монголов как поданных империи и в то же время как «внешних вассалов», детерминировала сочетание в цинском законодательстве для монголов как норм маньчжурского права, разработанных специально для монголов, так и норм монгольского обычного права.
Интеграция Халхи в имперское пространство маньчжурского государства потребовало от цинских властей поэтапного реформирования положения монгольской элиты, сопровождавшегося трансформацией правящего класса в вассально-чиновничье состояние с сохранением определенной степени автономии, элементов традиционной системы управления и привилегий.
Как справедливо отмечает Р.Ю. Почекаев, практика дарования ханских титулов маньчжурскими сюзеренами некоторым правителям монгольских областей в период покорения Монголии была инструментом формирования лояльных позиций среди отдельных монгольских аристократов [Почекаев 2018: 174]. В то же время это способствовало подрыву авторитета власти верховного монгольского хана и делегитимации традиции обретения ханского титула путем избрания или пожалования от великого хана. Однако после покорения Южной Монголии наличие вассалов, обладавших титулом ханов, заключало в себе опасность обоснования сепаратистских настроений среди местных аристократов по отношению к Цинской династии. Передача Эчжэ – сыном Лигдан-хана нефритовой печати императоров династии Юань маньчжурскому императору Хунтайцзи в 1635 г. способствовала легитимации правления монгольскими народами и обретению статуса верховного хана монголов цинскими правите- лями [Горохова 1980: 69-71]. Ко времени принятия цинского подданства правителями Халхи в 1691 г. значение титула верховного хана было уже неоспоримо закреплено за китайским императором. При этом de jure титул хана сохранялся за наследниками бывших правителей халхаских ханств: Тушету-хана, Цэцэн-хана, Дзасакту-хана и Сайн-нойон-хана, в то время как de facto они были приравнены к дзасак-ванам1.
В Северной Монголии в период маньчжурского господства были образованы две основные категории государственных учреждений: высшие органы власти и местные органы управления [Бадараев 2015: 70]. В истории реформирования системы управления можно выделить 3 этапа. На 1-м этапе, в период с 1691 по 1723 г., Халха была подчинена Лифаньюаню, а представителем высшей маньчжурской администрации в стране с 1696 г. стал маньчжурский наместник – цзяньцзюнь (генерал-губернатор) с постоянным местопребыванием в г. Улясутае [Содномдагва 1961: 13]. Второй этап датируется 1724–1753 гг. В 1728 г. во всех четырех аймаках Халхи была проведена реорганизация аймачных управлений в чуулганы (съезд хошунных дзасаков данного аймака) [Содномдагва 1961: 49]. Одновременно завершилось оформление знаменной системы, при которой каждый хошун являлся одновременно и военной единицей (знаменем)2. В ходе третьего этапа, с 1754 по 1761 г., был проведен ряд мероприятий по укреплению местных органов управления. В помощь улясутайскому цзяньцзюню в 1758 г. были назначены помощники – хэбэй-амбань (военный помощник) и амбань (по гражданским делам) с резиденцией в Урге; в 1761 г. было образовано постоянное наместничество в г. Кобдо [Содномдагва 1961: 8-19].
Специфика реформирования местных органов управления была определена значением Внешней Монголии в политической концепции империи Цин, занимавшей положение своеобразной «буферной зоны», отделяющей империю от соседних стран. В традициях китайской политики на таких территориях действовали принципы: «управлять варварами с помощью варваров», «атаковать варваров с помощью варваров», «сдерживать варваров с помощью варваров» [Намсараева 2003: 15]. На основе положений цинского законодательства для монголов закономерно предположить, что маньчжурские правители продолжали руководствоваться данными принципами по отношению к Халхе. Одна из главных задач дзасаков и князей Внешней Монголии заключалась в поддержании боеспособности войск, включавших все боеспособное население3. В то же время подробная регламентация военного дела ярко иллюстрирует основную функцию «внешних вассалов» империи, присущую традиционной китайской модели управления. При этом в правовом наследии фиксируется наличие дистанции между метрополией и Внешней Монголией4.
В процессе реорганизации местных органов управления маньчжуры не только сохранили аймачно-хошунную систему управления, но и развили ее. С 1696 г. прежние северомонгольские ханства и хошуны были преобразованы в военноадминистративные единицы, оставаясь основной административной единицей в провинции и феодальным уделом, закрепленным за тем или иным владетельным князем.
С 1728 г. по указу императора были учреждены съезды хошунных князей – чуулганы (4 – по числу аймаков), игравшие большую роль в политической системе Монголии в период цинского господства. С появлением данных институтов власть, принадлежавшая ранее аймачным правителям, перешла к председателю чуулгана (чуулган дарга), носившему также маньчжурский титул да-вана, и к его помощнику (дэд дарга), имевшему маньчжурский титул дэд-да-байса. В управление также входили писарь, командующий войсками чуулгана – тусалакчи дзангин, в подчинении которого находились все командующие хошунными и сомонными войсками [Содномдагва 1961: 52]. Председатель занимался рассмотрением судебных дел, челобитных аратов и князей, контролировал сбор налогов. На имя председателя чуулгана поступали все приказы и постановления цинских властей, и через него же вся документация чуулгана и хошунных управлений направлялась на рассмотрение в Лифаньюань.
Во главе хошуна стоял хошунный дзасак ( дзасак-ван ), назначаемый императором из достойных кандидатур по представлению Палаты внешних сношений. Дзасак обладал всей полнотой власти в масштабах вверенного ему хошуна как в гражданской, так и в военной области. К его компетенции относились осуществление суда, разбор жалоб, распределение пастбищных угодий, определение границ входивших в хошун сомонов, багов и отоков шабинаров богдо-гэгэна, проживавших на территории хошуна.
В целях стимулирования поступления монгольских князей на государственную службу и формирования иерархической модели власти на местах императорским указом 1692 г. были введены новые титулы и звания для монгольских владетельных князей по маньчжурскому образцу: цинь-ван (правитель хошуна, князь первой степени), долоцзюнь-ван (князь второй степени), доло-бэйл (князь третьей степени), гушаньбэй-цзы (бэйс – князь четвертой степени), фыньчжэнго-гун (князь пятой степени), фынэньфуго-гун (князь шестой степени) [Горохова 1980: 53]. Все утвержденные княжеские титулы были определены как наследственные. Признание в правах наследования считалось законным только после утверждения императорским указом. Невладетельные нойоны – тайджи подразделялись на 4 степени, при этом только тайджи 1-й степени мог стать правителем хошуна – дза-саком1. Полномочия, привилегии, титулы и порядок их наследования, размер жалования, число подданных, атрибуты одежды представителей элиты Халхи строго регламентировались законами цинского двора в соответствии с должностью, чином и званием, занимаемыми монгольскими аристократами [Бадараев 2017: 159-161].
В эпоху маньчжурского господства благородные сословия (владетельные и невладетельные князья) пополнились новыми социальными группами. Это табунаны (эфу) – императорские зятья (монгольские князья, женатые на маньчжурских принцессах), имевшие право на занятие государственных должностей, освобожденные от налогов и воинских повинностей и приравненные к представителям высшей монгольской феодальной знати; дарханы – покупная должность (лица, купившие дарханство, приобретали полную личную независимость при выборе занятия и места жительства; с 1824 г. дарханство стало наследственным); дунда (средние) – чиновники на государственной службе, не имеющие знатного происхождения; хафань – чиновники из простолюдинов, занимавшие государственные должности довольно высокого уровня (впоследствии, в XIX в., сословие приобрело статус института, включавшего 9 разрядов различных чинов и 27 ступеней); тайджи – младшие члены феодальных фамилий, не получившие уделов и подданных, кроме домашних слуг, которые освобождались от несения воинской службы, не подлежали суду местных судебных органов, не несли государственных повинностей и не платили налоги [Бадараев 2015: 72].
Цинское законодательство устанавливало особый порядок присвоения императорами титулов и званий монгольским аристократам, назначения их на должности со строгой регламентацией прав и обязанностей князей перед маньчжурскими правителями1. При этом правительство империи заботилось о сохранении авторитета власти зависимой от императора местной элиты в глазах подданных Внешней Монголии. Это положение весьма красноречиво иллюстрирует закон: «если кто-нибудь [при встрече] не назовет полностью титулы, которыми удостоены ваны, дзасак-нойоны, хошунные тайджи или гуны, то оштрафовать на один девяток бодо»2.
Меры, принятые маньчжурским правительством в области административного права и реформирования вертикали власти в Халхе, были призваны ослабить суверенную власть аристократов Внешней Монголии и закрепить зависимость их положения от заслуг на службе цинского императора. В то же время сохранение позиций и привилегий родовой аристократии Внешней Монголии, включение в состав местного самоуправления «внешних вассалов», употребление, наряду с цинскими законами, монгольских правовых традиций создали предпосылки для сохранения и усиления автономных элементов в управлении территорией Внешней Монголии, предопределив контуры и границы монгольского государства в XX в.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект №14-18-00552 «Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии».
Список литературы "Внешние вассалы" Цинской империи: политика маньчжурского двора в отношении аристократов Халхи
- Бадараев Д.Д. 2015. Вертикаль власти в системе управления на территории Внешней Монголии в Цинской империи. - Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. Т. 14. С. 67-74
- Бадараев Д.Д. 2017. Чиновничество в социальной стратификации монгольского общества в период Цинской империи. - Власть. № 11. С. 158-162
- Горохова Г.С. 1980. Очерки по истории Монголии в эпоху маньчжурского господства (конец XVII - начало XX века). М.: Наука. 131 с
- Намсараева С.Б. 2003. Институт наместников цинского Китая в Монголии и Тибете в XVIII веке: автореф. дис. … к.и.н. М. 24 с
- Почекаев Р.Ю. 2018. Степные империи Евразии: власть - народ - право: очерки по политической и правовой антропологии. Алматы: АБДИ Компани. 218 с
- Содномдагва Ц. 1961. Манжийн захиргаанд байсан Уеийн Ар Монголын засаг захиргааны зохион байгуулалт. 1691 - 1911 [Административное устройство Северной Монголии в период маньчжурского правления. 1691 - 1911 гг.]. Улаанбаатар. 135 с
- Elliot M.C. 2001. The Manchu Way. The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China. Stanford: Stanford University Press. xxiii+580 p
- Elverskog J. 2006. Our Great: The Mongols, Buddhism and the State in Late Imperial China. Honolulu: University of Hawaii Press. 242 p
- Perdue P.C. 2005. China Marches West: The Qing Conquest of Central Eurasia. Cambridge, MA: Harvard University Press. 725 p