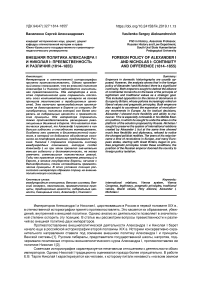Внешняя политика Александра I и Николая I: преемственность и различия (1814-1855)
Автор: Василенко Сергей Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2019 года.
Бесплатный доступ
Императоров в отечественной историографии принято противопоставлять. Однако проведенный анализ показывает, что во внешней политике Александра I и Николая I наблюдается значительная преемственность. Оба императора в качестве стратегической цели стремились отстоять союз континентальных монархов на основе принципа легитимизма и традиционных ценностей. Это включало противодействие притязаниям на доминирование в Европе со стороны Великобритании, политика которой все более опиралась на либеральные ценности и прагматические принципы. Оба императора стремились также противодействовать расширению революционных движений в Европе. Что касается тактических решений, то Александр I проявлял в них больше гибкости и способности маневрировать. Особенно это заметно в ближневосточной политике, в которой он добивался объединения союзников на платформе решения, предлагаемого Россией. Николай I стремился сохранить систему международных отношений, которую создал Александр I, но при этом проявлял значительно меньше гибкости и дипломатичности, не желал замечать изменившихся политических реалий. Годы его правления стали временем революций в Европе, а многие государства Европы, начиная с Великобритании, стали исповедовать прагматические принципы. В этих условиях позиция российского императора обрекала страну на внешнеполитическую изоляцию.
Международные отношения, венская система, венский конгресс, легитимизм, прагматические принципы, традиционные ценности, либеральные ценности, священный союз, александр i, николай i
Короткий адрес: https://sciup.org/149133880
IDR: 149133880 | УДК: 94(47):327“1814-1855” | DOI: 10.24158/fik.2019.11.13
Текст научной статьи Внешняя политика Александра I и Николая I: преемственность и различия (1814-1855)
Василенко Сергей Александрович
Императоров Александра I и Николая I, царствовавших в России в первой половине XIX в., в отечественной историографии принято противопоставлять. Это касается их образования, убеждений, внутренней и внешней политики. Однако анализ их деятельности позволяет в значительной степени оспорить эту позицию. В статье мы рассмотрим вопросы преемственности и различий во внешней политике двух императоров.
Противопоставление внешнеполитической деятельности Александра I и Николая I берет начало еще в российской историографии второй половины XIX в. Историки консервативно-охранительного направления ставили под сомнение внешнюю политику Александра I и принципы Венской системы [1]. Русские либералы, представители государственной школы, напротив, подчеркивали позитивные стороны внешнеполитического курса Александра I, противопоставляя ее политике Николая I [2].
Советская историография характеризуется негативным отношением к деятельности обоих императоров. Однако Николай I традиционно оценивался гораздо более отрицательно. В работе Е.В. Тарле Николай I характеризуется как человек, к которому питали ненависть «на всем земном шаре не только представители революционной общественности, но и все сколько-нибудь прогрессивно настроенные элементы» [3, с. 16]. Подобных взглядов в 40–50-е гг. ХХ в. придерживались С.К. Бушуев, П.С. Мягков и др. [4]. В 60–80-е гг. XX в. наблюдаются более взвешенные оценки деятельности государственных деятелей [5].
В конце 80-х и 90-е гг. ХХ в. в историографии господствовал либеральный подход с резко критическим отношением к внешней политике как Александра I, так и Николая I, но особенно негативной оценке подвергалась внешняя политика Николая I [6]. В начале XXI в. в российской историографии начинают появляться суждения с более позитивной оценкой внешнеполитической деятельности в первую очередь Александра I [7]. Особенно отметим работу Т.А. Макаровой, которая отмечает, что именно Александр I подготовил ту расстановку сил, при которой начался Венский конгресс, он сыграл ведущую роль в формировании сложившегося в Европе политического равновесия [8, с. 167–168]. Что касается Николая I, то определенное освобождение оценок его личности от идеологических штампов, отмеченное в историографии [9, с. 91], лишь в некоторой степени отразилось на оценках его внешнеполитической деятельности; последнее связано только с переоценкой итогов Крымской войны, которые начинают рассматриваться более позитивно [10].
В западной историографии, особенно в обобщающих и обзорных работах, посвященных международным отношениям государств Евразии (У. Сандерленд, 2000; А. Лебарон, 2002), подчеркивается извечное стремление России к экспансии, расширению из центра к периферии континента, в этом плане политика российских императоров рассматривается как преемственная [11]. Во французской историографии заметен интерес к Александру I как к победителю Наполеона и создателю Венской системы. Так, А.В. Рачинский (Франция) считает Александра I одной из самых масштабных фигур русской истории и одним из самых оболганных политических деятелей, так как ему мстили как поклонники Бонапарта, так и либералы [12, с. 18]. Определенный интерес во Франции вызывают русская дипломатия и деятельность секретных служб России в период перед наполеоновскими войнами (В. Земцов, 2018) [13]. М.-П. Рей подчеркивает дипломатический талант, гибкость решений монарха, позволившие Александру I сыграть такую значительную роль в разгроме Наполеона, в проведении Венского конгресса, в создании Венской системы [14].
Анализируя внешнеполитическую деятельность Александра I, хочется отметить, что, вопреки высказанным в литературе соображениям о ее противоречивости [15, с. 164], она, на наш взгляд, была очень последовательной и исходила из представления о Европе, объединенной на принципе легитимизма. Идеи объединенной Европы были реализованы еще в XVII в., когда после Тридцатилетней войны сложилась Вестфальская система международных отношений. Она действовала на основе баланса сил, когда крупнейшие государства Европы не допускали чрезмерного усиления одного государства за счет других. Однако в конце XVIII в. устойчивость Вестфальской системы значительно снизилась из-за многочисленных нарушений баланса сил и нарастания конфликтов [16, с. 96].
Наполеон Бонапарт имел свой план объединения Европы под эгидой Франции. План Александра I исходил из представления о Европе, объединенной на принципе легитимизма и традиционных ценностях. В составленном им Акте Священного союза упор делается на христианские ценности («Соответственно словам священных писаний, повелевающим всем людям быть братьями…»), патерналистские ценности («…в отношении же к подданным и войскам своим, они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства, которыми они одушевлены для охранения веры, мира и правды…»), нравственные ценности («почитая себя как бы еди-ноземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь») [17, с. 279]. Именно поэтому Александру был необходим Священный союз, в рамках которого можно было более эффективно поддерживать традиционные ценности, в отличие от Четверного союза, где было сильно положение Великобритании, все более склонявшейся к либерализму. Александр I рассматривал укрепление союза континентальных монархов как основную гарантию стабильности Венской системы, главным же соперником он видел Великобританию. Конгрессы обсуждали революции в Испании, Португалии, Италии (имея цель подавить их и восстановить легитимные монархии), а затем и ситуацию в Латинской Америке, связанную с возникновением независимых государств на месте испанских и португальских колоний. Великобритания не вошла в Священный союз, несмотря на неоднократные предложения, так как, с одной стороны, исповедовала новые, либеральные ценности, а с другой – не желала усиления континентальной Европы. Поэтому она сначала тайно, а затем все более явно поддерживала восстания, революции, особенно в Латинской Америке.
Александр I испытывал большую тревогу в связи с расширением революционного движения в Европе. В 1820 г. Австрия, Пруссия и Россия подписали Предварительный протокол, в котором провозглашалось право вооруженного вмешательства во внутренние дела других государств (без согласия их правительств) для подавления революционных выступлений. На Веронском конгрессе
1822 г. представители Австрии, Пруссии и России одобрили инициативу Франции по подавлению испанской революции. Англия отказалась одобрить данный проект официально, но в целом не высказала решительных возражений. На основании вышеизложенного можно утверждать, что решения Священного союза достигли своей цели: первая волна революций в Европе была остановлена, а притязания Великобритании по этим вопросам не удалось реализовать.
Примерно так же разворачивалась дипломатическая борьба и в ближневосточной политике, особенно в связи с восстанием в Греции. Лайбахский конгресс Священного союза 1821 г. отнесся к восстанию отрицательно, усмотрев в нем нарушение принципа легитимизма; особенно на этом настаивала Австрия, противодействуя российской ближневосточной политике. Однако российское правительство не могло остаться безучастным к происходящим в Греции событиям. Александр I маневрировал: заявив о непричастности России к восстанию и даже осудив его, император считал своим долгом повлиять на османские власти с целью минимизации жертв среди греческого населения. Османская империя игнорировала призывы России урегулировать конфликт мирными средствами. Тогда Россия предъявила Турции ультиматум, а затем прервала дипломатические отношения, призвав европейские государства к коллективному давлению на Турцию с целью сохранения греческой нации. В 1823 г. Англия, в соответствии со своей новой доктриной, признала греков воюющей стороной. В 1825 г. в России появился план «Мемуар об умиротворении Греции», где впервые высказывалась мысль о политическом устройстве греческих земель на основе автономии. Александр I настаивал на коллективном решении греческого вопроса под главенством России. Великобритания и Франция все более склонялись к поддержке русского плана. И лишь Австрия осталась на прежних позициях полной поддержки Турции.
Таким образом, внешняя политика Александра I характеризовалась четким следованием стратегической цели – поддержанию единства континентальных монархических государств на основе принципа легитимизма и традиционных ценностей; это включало противодействие притязаниям Великобритании на политическое доминирование в Европе.
Внешняя политика Николая I в целом продолжала курс, заложенный Александром I. Николай был убежден, что только статус-кво Венского конгресса может обеспечить общий мир. При этом он также опирался на традиционные ценности, недаром русский историк Ф.Ф. Мартенс писал, что девизом внешней политики России при Николае I можно считать слова «Прямота и честность» [18, с. XII]. В период после окончания конгрессов и до конца 1820-х гг. российская дипломатия добилась значительных результатов в европейской политике. Позиция России обеспечила определенную стабильность Венской системы и баланс политических сил в Европе.
Однако уже в 1830 г. положение России в Европе значительно изменилось. В 1830–1831 гг. по Европе прокатилась волна революций. В 1830 г. во Франции произошел революционный переворот, после которого трон занял герцог Орлеанский, принявший имя Луи Филиппа. Николай I первоначально пытался организовать поход для подавления революции, а потом признавал Луи Филиппа не королем, а лишь регентом. Эти предложения были направлены в Вену, Берлин и Лондон, но ничего, кроме еще большего осложнения ситуации, не принесли, так как все три главных европейских правительства уже фактически признали Луи Филиппа королем.
Восстание в Брюсселе в августе 1830 г. положило начало бельгийской революции; Голландия была вынуждена признать независимость Бельгии. Таким образом, был создан прецедент – впервые Европа признала новое государство, несмотря на то что это нарушало устои Венской системы. Несмотря на договоренности, только российский император заявил о готовности выставить обозначенное договорами количество войск для сохранения целостности Нидерландского королевства. Эта ситуация повторилась и в 1848–1849 гг., когда в Европе вновь вспыхнуло революционное движение, а европейские правительства не спешили вслед за русским императором выполнять свои договоренности о военной помощи. Подавление венгерской революции российскими войсками окончательно испортило репутацию Николая I в Европе и не укрепило положения России в системе европейских отношений. В 1830–40-е гг. он единственный из монархов великих держав по-прежнему отстаивал принцип легитимизма, на котором основывалась Венская система. Западные же монархи нарушали этот принцип под влиянием политической ситуации.
Было бы ошибкой оценить внешнюю политику Николая I как негибкую, но тактически он проигрывал более расчетливым и прагматичным европейским политикам. Так, он много сделал для создания системы двусторонних соглашений между континентальными монархиями, однако укрепить монархическое единство в изменившихся условиях это не помогло. Попыткой приспособиться к изменившейся международной ситуации можно считать предпринятые Николаем I шаги, направленные на сближение с Англией. Он полагал, что противоречия между Англией и Францией в колониальном и европейском вопросах в дальнейшем будут углубляться. Англия же, в силу своей стабильности и высокого экономического потенциала, представлялась российскому императору весьма перспективным союзником. В 1844 г. Николай I лично посетил Лондон;
во время этой поездки он старался с максимальной открытостью завоевать доверие англичан. Однако достигнутые договоренности носили устный характер, и у императора так и не получилось развеять недоверие Великобритании в отношении своих действий на Востоке [19, с. 62–63].
Подведем итоги. Проведенный анализ позволяет утверждать, что, вопреки распространенному в историографии мнению, во внешней политике Александра I и Николая I наблюдается значительная преемственность. Оба императора в качестве стратегической цели стремились к отстаиванию союза европейских монархов на основе принципа легитимности и традиционных ценностей. Оба предпринимали политические шаги для противодействия расширению революционных движений в Европе.
Что же касается тактических решений, то Александр I проявлял в них больше гибкости и способности маневрировать. Особенно это заметно в ближневосточной политике, в которой он использовал разные методы и добивался объединения союзников на платформе решений, предлагаемых Россией, как это имело место в греческом вопросе. Николай I стремился во что бы то ни стало сохранить систему международных отношений, которую создал Александр I, но при этом не проявлял гибкости и дипломатичности, не желал замечать изменившихся политических реалий. 1830–40-е гг. стали временем революций в Европе; многие государства, начиная с Великобритании, стали исповедовать прагматические принципы. В этих условиях позиция российского императора, который считал своим долгом противостоять «бунтарскому хаосу» и сохранять союз монархов на принципах легитимизма, обрекала Россию на изоляцию.
Ссылки:
М., 1954. 128 с.
Список литературы Внешняя политика Александра I и Николая I: преемственность и различия (1814-1855)
- Татищев С.С. Император Николай и иностранные дворы. Исторические очерки. СПб., 1889. 459 с.; Полиевктов М.А. Николай I: Биография и обзор царствования. М., 1918. 95 с
- Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. М., 1993. 446 с.; Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Петрозаводск, 2006. 704 с.; Соловьев С.М. Император Александр I. Политика - дипломатия. М., 1995. 637 с
- Тарле Е.В. Крымская война. Т. 1. Минск, 2005. 606 с
- Бушуев С.К. Крымская война 1853-1856 гг. М.; Л., 1940. 159 с.; Мягков П.С. Севастопольская оборона, 1854-1855. М., 1954. 128 с
- Георгиев В.А. Внешняя политика России на Ближнем Востоке в конце 30-х - начале 40-х гг. XIX в. М., 1975. 200 с.
- Ерофеев Н.А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских, 1825-1853 гг. М., 1982. 320 с.
- Киняпина Н.С. Внешняя политика России в первой половине XIX в. М., 1963. 286 с.
- Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб., 2008. 672 с.; Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 2000. 539 с
- Кудрявцева Е.П. Венская система международных отношений и ее крушение (1815-1854) // Новая и новейшая история. 2014. № 4. С. 88-106
- Макарова Т.А. Роль Александра I в международных отношениях и предпосылки создания Священного союза // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2008. № 1. С. 164-169.
- Выскочков Л.В. Император Николай I. Проблемы и итоги изучения николаевской эпохи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 2005. Вып. 4. С. 79-99
- Казарин В. "Битва за Ясли Господни". Чем на самом деле закончилась Крымская война // Литературная газета. 2005. № 4. С. 14-15.
- Самохин К.В. Процессы российской модернизации в конце XVIII - первой половине XIX в. // Современные исследования социальных проблем: электронный научный журнал. 2012. № 11.
- Lebaron A. Beyond Binary Histories: Re-Imagining Eurasia to c. 1830 (Review) // Journal of World History. 2002. Vol. 13, no. 1. P. 192-195.
- DOI: 10.1353/jwh.2002.0016
- Sunderland W. The Russian Empire and the World, 1700-1917: The Geopolitics of Expansion and Containment (Review) // Journal of World History. 2000. Vol. 11, no. 2. P. 390-391.
- DOI: 10.1353/jwh.2000.0053
- Рачинский А.В. Александр I и Наполеон в первой глобальной войне // Пространство и Время. 2012. № 3. С. 11-19
- Zemtsov V. 1812: Russian Intelligence in Paris (According to French Archive Documents) // The Journal of Slavic Military Studies. 2018. Vol. 31, no. 1. P. 103-121.
- DOI: 10.1080/13518046.2018.1415268
- Rey M.-P. Alexander I. Paris, 2009. 593 p
- Макарова Т.А. Роль Александра I в международных отношениях и предпосылки создания Священного союза // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2008. № 1. С. 164.
- Саямов Ю.Н. О международных отношениях и глобальных процессах (часть 1) // Вестник Московского университета. Сер. 27. Глобалистика и геополитика. 2015. № 3-4. С. 91-100
- Мартенс Ф.Ф. Предисловие // Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами: в 15 т. Т. 4. Ч. 1. СПб., 1878. 602 с
- Трубецкой А. Крымская война / пер. с англ. В. Генкина. М., 2010. 320 с