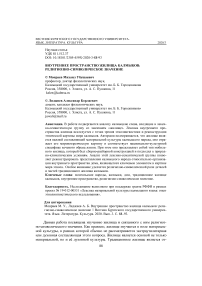Внутреннее пространство жилища калмыков: религиозно-символическое значение
Автор: Монраев Михаил Убушаевич, Лиджиев Александр Борлаевич
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В работе подвергаются анализу калмыцкие слова, входящие в лексико-семантическую группу со значением «жилище». Лексика внутреннего пространства жилища исследуется с точки зрения этнолингвистики и реконструкции этнической картины мира калмыков. Авторами подчеркивается, что жилище является важной составляющей материальной культуры калмыцкого народа, оно отражает его мировоззренческую картину и соответствует национально-культурной специфике кочевого образа жизни. При этом оно представляет собой тип мобильного жилища, который был сборно-разборной конструкцией и подходил к природно-климатическим условиям. Анализ этой лексико-семантической группы позволяет реконструировать представления калмыцкого народа относительно организации внутреннего пространства дома, являющегося ключевым элементом в картине мира этноса. Особое внимание уделяется религиозно-символической роли деталей и частей традиционного жилища калмыков
Монгольские народы, калмыки, дом, традиционное жилище калмыков, внутреннее пространство, религиозно-символическое значение
Короткий адрес: https://sciup.org/148315656
IDR: 148315656 | УДК: 811.512.37 | DOI: 10.18101/2305-459X-2020-3-88-93
Текст научной статьи Внутреннее пространство жилища калмыков: религиозно-символическое значение
Монраев М. У., Лиджиев А. Б. Внутреннее пространство жилища калмыков: религиозно-символическое значение // Вестник Бурятского государственного университета. Язык. Литература. Культура. 2020. Вып. 3. С. 88‒93.
Данная работа посвящена изучению жилища и связанного с ним религиозно-символического значения. Как правило, жилище изучается в поле материальной культуры, в рамках которой обычно не рассматривается экстраутилитарная или духовная составляющая этого вопроса. Жилище является основой не только материальной, но и её духовной культуры. Традиционное жилище является от- ражением национально-культурной адаптации к природно-климатическим условиям. В этой связи основное внимание акцентируется на проблеме взаимодействия языка, культуры и человека, актуальность данного исследования продиктована тем обстоятельством, что лексика калмыцкого языка является объектом этнолингвистического исследования, что требует более пристального изучения.
В работе предпринимается попытка осмысления религиозносимволического значения внутреннего пространства дома в культуре калмыков, т. к. дом является ключевым элементом в картины мира этноса. Актуальность данной работы заключается в том, что языковая картина мира обладает национально-культурными характеристиками, поскольку отражает специфическое видение мира каждого этноса. И именно жилище калмыков и других кочевых народов наиболее адекватно соответствовало национально-культурной специфике кочевого образа жизни, оно представляло собой соответствующий тип мобильного жилища, который был сборно-разборной конструкцией и наибольшим образом соответствовало природно-климатическим условиям.
Поэтому при рассмотрении данного вопроса существенное значение будет уделяться языку, фольклору и этнографии, поскольку именно междисциплинарный подход позволяет эффективно решать поставленные задачи и реконструировать картину мира этноса.
Основная задача будет заключаться в выявлении особенностей организации внутреннего пространства и религиозно-символической роли деталей и частей традиционного жилища калмыков.
Традиционным жилищем калмыков была юрта, ишкə гер ‘войлочный дом (юрта)’, которая являлась оптимальным типом жилища и соответствовала номадному типу скотоводства калмыков, остававшимся неизменным на протяжении долгого времени [7, с. 135]. Юрта представляла собой деревянные решетчатые стены, соединенные вверху длинными жердями для поддержания верхнего круга — дымохода, вся конструкция покрывалась войлоком, входом служили двустворчатые двери [3, с. 51]. Жилище являлось мировоззренческой моделью вселенной, в которой отражается упорядоченный мир человека. Расположение предметов внутри жилища имело сакральное значение для монгольских народов, что превращало дом, в культурное пространство противоположное остальному миру, необжитому [5, с. 14–15].
Кочевой образ жизни предполагал частые переезды, что требовало регулярного установления жилища на новом месте, чем объясняется ее сборноразборный характер. У калмыков важным являлась строгая ориентация жилища по сторонам света, вход должен был находиться на южной, или передней, стороне. Пространственное расположение жилища являлась этнокультурным маркером, так как «ориентировка жилища у кочевников Евразии является одним из существенных этнических признаков.
Анализ письменных источников позволяет сделать вывод, что в степях Центральной Азии у кочевников издавна были известны две традиции ориентировки жилищ — восточная и южная, причем восточная была связана с хунну и тюрками, южная — с монголами» [2, с. 37]. Поэтому ориентация человека в пространстве играла ключевую роль, важным являлся выбор сторон света: какую сторону этническая общность воспринимает как юг, север, восток или запад? Ориентация основывалась на положении солнца, как правило, югу соответствовал восход солнца, т. е. восток, а северу — запад, что более совпадало с древнетюркским представлением о сторонах света. Тогда как в современных представлениях с левой стороной ассоциируется запад, восток — это правая сторона, однако у монгольских народов соотношение сторон имеет противоположное значение, запад — это правая сторона, восток — левая. Ориентировка по сторонам света у монгольских народов несколько отличалась от тюркской, бытовавшей у монголов до середины XIII в., позже ориентация была изменена на юг и юго-восток, в настоящее же время является этнодифференцирующим признаком [1, с. 244].
В калмыцком героическом эпосе «Джангар» имеются указания, что ориентиром является солнце, по расположению которого соотносились с югом [6, с. 35]. Например, «обычай ставить юрту входом на юг, скорее всего, также связан с почитанием Солнца. Все монгольские этнические группы ставят юрту на юг или, точнее, входом в сторону восхода солнца. Все это связано с почитанием Солнца, Луны и Неба, а также имеет практическое значение» [10, с. 20].
Традиционно устанавливали «дверь кибитки, которая, по старому поверью калмыков, всегда должна находиться с южной стороны и вход должен строго соответствовать югу. При установке кибитки хозяева самым тщательным образом следят, чтобы дверь была обращена на юг. Юг, по их словам, богом возлюбленная сторона, — сторона, которая несет всегда тепло» [4, с. 61]. Однако были исключения, в тех случаях, когда юрта располагалась вблизи буддийского монастыря или храма, духовного лица или людей более высокого сословия, то жилище ориентировалось входом в их сторону, в противном случае это считалось неуважением и дерзостью [там же].
Жилище монгольских народов имело веками выработанную традиционное деление внутреннего пространства, оно было строго структурировано и представляло собой модель мира в миниатюре. «Прежде всего это важно с чисто практической точки зрения — все вещи в кочевом хозяйстве должны быть на своем месте и всегда под рукой. Но и с пространственно-семантической точки зрения, естественно не осознаваемой лицом, устанавливающим юрту (а это приходится делать до десяти, а то и более раз в год) в соответствии с многовековой традицией, весьма важно разметить все на положенном месте, и прежде всего — сориентировать в пространстве» [5, с. 16].
Внутреннее пространство жилища делилось на правую и левую стороны, или по символическому принципу на женскую и мужскую. На женской стороне хранилась утварь, продукты, что соответствовало понятию о женском труде, а на противоположной, мужской стороне, хранились инструменты, орудия труда и другие атрибуты мужской деятельности. Самой важной и почетной частью дома являлось место напротив входа, т. е. на северной стороне, где располагался семейный алтарь и семейные ценности.
В центре жилища находился очаг, калм. һулмт, вокруг него была сосредоточена вся жизнь калмыков, очаг являлся точкой, образующей культурное пространство человека, сакральным центром, где совершались обрядовые и магические действия, которые должны были способствовать благополучию дома, здо- ровью его обитателей. Домашнему очагу поклонялись, это являлось уважением и почитанием предков. Основные действия обрядов жизненного цикла — рождение, свадьба, смерть осуществлялись вокруг очага. По мнению торгутов у домашнего очага, когда горит огонь, собираются духи предков [10, 137]. Посторонним людям нельзя было трогать очаг, также воспрещалось движение против часовой стрелки, что воспринималось как неуважение к хозяину дома, нельзя было выносить огонь из дома и передавать его посторонним людям [5, с. 139].
Дом является символом благополучия и богатства, поэтому для безопасности и благополучия дома существует множество запретов и ограничений, которые необходимо соблюдать и не нарушать. Так, например, важным пограничным символом является дверь, которая часто трактуется как граница жилого пространства, которое противопоставлялась нежилому, чужому; на дверь или около двери часто вешали обереги, чтобы предохранить кибитку от проникновения в нее нечистых сил [4, с. 244].
Дверь и порог относились к пограничному символу жилого пространства, являясь связующим звеном с внешним миром, особенно порог, поэтому плохой приметой считалось споткнуться о порог, это могло означать, что благодать может уйти из дома. Они также символизировали прочность юрты, живущей семьи и всего рода. Порог оберегает добрых духов и благодать в доме, препятствуя злу и его попыткам проникнуть внутрь. Часто на дверь над притолокой закрепляли острые предметы, которые должны были рассечь и обезвредить зло, которое могло проникнуть внутрь жилища [5, с. 20].
Запрещалось днем одновременно закрывать войлоком дверь и дымоход, что считалось дурным предзнаменованием, так как по представлениям калмыков они могут быть закрыты только в одном случае, когда все в доме умерли или тяжело больны. Исключение составляет ночное время, когда они могут быть закрыты до восхода солнца [4, с. 62]. Дверь представляла границу жилого пространства, обеспечивающая связь с внешним миром и защиту от него. В случае смерти покойного выносили не через дверь, а поднимали решетки стенки юрты или делали проем между дверью и стеной юрты [9, с. 73]. Порог жилища также символизировал границу дома, где исполнялась семейная обрядность и магические действия. Порог делил пространство на свое и чужое, что было обусловлено его местонахождением на выходе из жилища [8, с. 173]. Так при совершении свадебной обрядности в традициях калмыков при поклонении домашнему очагу невестка кланялась перед порогом юрты [10, с. 137]. Для защиты от проникновения злых духов в жилище монгольские народы оставляли у порога дома веточку харганы [там же, с. 46].
Стены решетки также имели важное сакральное значение, к её верхнему основанию на северо-восточной стороне урянхайские шаманы привязывали онгона перед началом камлания, дэрбэтские шаманы во время камлания подвешивали к жердям — уни и проводили обряд [там же, с. 169, с. 170]. Это связано, очевидно, с тем, что верхняя часть решетки маркируется понятием «свой», а нижняя часть, соответственно, с понятием «чужой», т. е. выражается категория оппозиции [9, с. 313]. Большим грехом у калмыков считалось смотреть в щель между верхним концом двери и верхним первым выступом решетки, поскольку через нее может смотреть нечистая сила [4, с. 62].
Верх жилища дымовое отверстие, монг. тоон , для монгольских народов имел сакральное значение, через него выходил дым из кибитки и проникал свет. Дымовое отверстие и дверь представляли собой границы, потому что «злые он-гоны проникают через тооно жилища, а добрые — через дверь» [10, с. 153].
У калмыков дымовое отверстие, харач «матица, круг (юрты)», также является важным символом, днем он должен быть открыт. Если же днем дымник юрты и дверь закрыты войлоком, то это считалось плохой приметой. Поскольку могло означать, что жители кибитки погибли или больны. Дверь и дымовое отверстие могут быть одновременно закрыты только ночью и до восхода солнца. Проклятьем считались слова «пусть у твоей кибитки дверь и дымовое отверстие будут закрыты» [4, c. 62].
В устройстве жилища придавалось особое значение бахн ‘ калм . столб, колонна; опорная балка’, на который опирается юрта. Он, как правило, изготавливался из березы, поскольку монгольские и тюркские народы считали ее священным деревом и верили в его необычные свойства. Монгольские народы верили в то, что береза может защитить от несчастий, так как полагали, что она являлась любимым деревом сабдаков, духов и владык местности — озер, гор, рек [10, с. 45]. Также считалось, что береза не поддается проклятию лусов — духов вод и местности, водяных, леших. Кроме того, монголы считали хорошим знаком иметь ручку плетки из березы, полагая, что она защищает от неудач, также из нее вырезали посуду [там же].
Березе приписывали и неуязвимость от удара молний, для чего существовали магические действия с этим деревом, позволяющие предохранить жилище во время грозы. Для защиты от удара молний монголы из березы делали опоры для юрт, вешали заг у стены, ставили у дверей колючки (харгана), чтобы преградить дорогу в юрту черным духам. Алтайцы в этих же целях помещали ветки березы в передний угол аила. Во время грозы их клали на очаг в уверенности, что это спасет дом от ударов молний [10, с. 45].
У ойратов особым почитанием и считалась священной красная ива — улан бурһсн , что связано с почитанием культа огня. Из ивы делали остроконечные палки, чтобы ничто плохое и вредно не могло проникнуть в дом» [10, с. 45–46].
Согласно представлениям калмыков существовал целый комплекс религи-озно-симоволических воззрений и обрядов относительно жилища, поскольку установка жилища носила не только утилитарный, но экстраутилитарный, символически детерминированный характер.
Таким образом, жилище калмыков отражало их мировоззренческую картину, для благополучной и стабильной жизни калмыки выполняли множество требований и обрядовых действий, связанных с самим жилищем и его внутренним расположением.
Список литературы Внутреннее пространство жилища калмыков: религиозно-символическое значение
- Бадмаев А. А. О происхождении традиционных типов жилищ бурят // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 5: Археология и этнография. С. 240–247.
- Вайнштейн С. И. Мир кочевников центра Азии. М., 1991. 296 с.
- Викторова Л. Л. Монголы: Происхождение народа и истоки культуры. М., 1980. 224 с.
- Душан У. Д. Избранные труды. Элиста: КИГИ РАН, 2016. 376 с.
- Жуковская Н. Л. Категория и символика традиционной культуры монголов. М., 1988. 196 с.
- Лувсанбалдан Х. Слова, обозначающие стороны света в «Джангаре» их семантика и символика // Исследования по грамматике и лексике монгольских языков. Элиста, 1985. С. 35‒42.
- Рассадин В. И., Трофимова С. М., Чулуунбаатар Л. Общемонгольская лексика по разделу традиционное жилище в халхаском, бурятском и калмыцком языках // Вестник КИГИ РАН. 2017. № 4. С. 134‒140.
- Славянские древности. Этнолингвистический словарь: М., 2009. Т. 4. 656 с.
- Содномпилова М. М. Мир в традиционном мировоззрении и практической деятельности монгольских народов. Улан-Удэ, 2009. 366 с.
- Эрдэнэболд Л. Традиционные верования ойрат-монголов (конец XIX — начало XX в.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. 196 с.