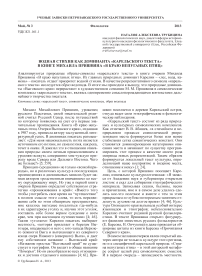Водная стихия как доминанта «карельского текста» в книге Михаила Пришвина «В краю непуганых птиц»
Автор: Трубицина Наталия Алексеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (132), 2013 года.
Бесплатный доступ
Анализируются природные образы-символы «карельского текста» в книге очерков Михаила Пришвина «В краю непуганых птиц». Из главных природных доминант Карелии - «лес, вода, камень» - писатель отдает приоритет водной стихии. В качестве репрезентативного символа «карельского текста» исследуется образ водопада. В итоге мы приходим к выводу, что природные доминанты «Выговского края» перерастают в художественном сознании М. М. Пришвина в символические комплексы «карельского текста», являясь одновременно смыслопорождающими контекстами дальнейшего творчества писателя.
"карельский текст", символические комплексы, образ водопада
Короткий адрес: https://sciup.org/14750414
IDR: 14750414 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Водная стихия как доминанта «карельского текста» в книге Михаила Пришвина «В краю непуганых птиц»
Михаил Михайлович Пришвин, уроженец русского Подстепья, своей писательской родиной считал Русский Север, после путешествий по которому появились на свет его первые значительные произведения. Книга «В краю непуганых птиц. Очерки Выговского края», изданная в 1907 году, принесла автору заслуженный литературный успех. В дневниках писатель размышляет: «Для меня национальность поэта является источником его поэзии, но сама поэзия, как река, течет в океан. Я доказал это в отношении описания природы: своим личным прикосновением я уродняю всякую, совершенно мне чуждую природу вроде Севера или Дальнего Востока. Чего же больше?» [5; 559].
Принцип «уроднения» не только «всякой природы», но и различных культур в последующих произведениях и дневниковых записях будет назван автором «родственным вниманием» ко всему окружающему миру. Но уже в первой книге очерков Пришвин определит собственную стратегию «проникновения в край»: «Вместо того чтобы употребить свое время на “путешествие” в полном смысле этого слова, то есть передвижение себя по этим обширным пространствам, мне казалось выгоднее поселиться где-нибудь в их характерном уголку и, изучив этот уголок, составить себе более верное суждение о всем крае, чем при настоящем путешествии» [4; 46]. Таким «уголком» Карелии писатель выбирает местность, «которая прилегает к берегам Вы-гозера, впадающего в него с юго-запада Верхнего (южного) Выга и вытекающего из северного конца озера Нижнего (северного) Выга», и дает ему собственное название – Выговский край: «Название простые “Выговский край” не существует в географии. Он входит в общее название “Поморья”. Но он своеобразен во всех отношениях и достоин отдельного названия» [4; 61]. При- швин поселяется в деревне Карельский остров, откуда ведет свои этнографические и фенологические наблюдения.
«Карельский текст» состоит из ряда природных и культурных символических комплексов. Как отмечает В. В. Абашев, «в стихийном и непрерывном процессе символической репрезентации места формируется более или менее стабильная сетка семантических констант. Они становятся доминирующими категориями описания места и начинают по существу программировать этот процесс в качестве своего рода матрицы новых репрезентаций. Таким образом формируется локальный текст культуры, определяющий наше восприятие и видение места, отношение к нему» [1; 24].
Цель, с которой Пришвин посещает Карелию, изначально культурологическая: «Я запасся от Академии наук и губернатора открытым листом: я ехал для собирания этнографического материала. Записывая сказки, былины, песни и причитания, мне и в самом деле удалось сделать кое-что полезное и вместе с тем за этим прекрасным и глубоко интересным занятием отдохнуть духовно на долгое время» [4; 46]. Культура Олонецкого края вызывала особый интерес языковедов и этнографов; небезосновательно Карелию считают родиной русской фольклористики. В тексте Пришвина открыто фигурируют фамилии известных русских фольклористов (Е. Барсова, Н. Ончукова) и даже приводятся обширные цитаты из книги Барсова «Причитания Северного края».
В самом заглавии очерков явлен открытый интерес автора не только к культуре этого региона, но и к специфичной карельской природе. «Страна непуганых птиц» – в этой авторской метафоре сокрыт целый ряд символических смыслов. И в первую очередь – заповедность местности.
«“Заповедность” (как в отношении пространства, так и времени) – основной признак края, и почти все типовые образы конкретизируют это представление… Отгороженность, “неотмир-ность” делают Карелию “маленькой сказочной страной” (выражение информанта), несмотря на реальное географическое положение и размеры территории» [6].
Первым собеседником автора в очерках предстает сказочник Мануйло. Пришвиновед Н. В. Борисова справедливо назовет фигуру сказочника «своеобразным метатекстовым знаком». Беседа героя-повествователя со сказочником начинается в реальном пространстве обонежских лесов.
« – И так всю жизнь, – говорит Мануйло, – всю жизнь по мхам да лесам. Идешь, идешь, да и свалишься в сырость и спишь. Собака, бедная, подбежит, завоет, думает – помер. А отлежишься и опять зашагаешь. С моховинки в лес, из леса на моховинку, с угора в низину, с низинки на угор. Так вот и живем» [4; 42].
Но в этой же главке происходит расширение реального пространства до уровня мифопоэтического за счет введения нового «социокультурного жанра» (В. Г. Щукин) – сновидения. «Мы опять засыпаем. Опять снится страна непуганых птиц. Но кто-то, кажется, городской, хорошо одетый, маленький, спорит с Мануйлой.
– Нет такой птицы.
– Есть, есть, – спокойно твердит Мануйло.
– Да нет же, нет, – беспокоится маленький, – это только в сказках, может быть, и было, только давно. Да и не было вовсе, выдумки, сказки…
– Ну вот, поди ты говори с ним, – жалуется мне огромный Мануйло. – У нас этой птицы нет счету, видимо-невидимо, а он толкует, что нету. Обязательно есть такая птица. В нашем-то лесу да и не быть!» [4; 44]. Так целый край превращается в сказочную страну, изначально задается в некоей мифологической парадигме.
Исследователь феноменологии места, американский геокультуролог Йи-Футуан отмечает, что «у каждой страны есть своя фактическая и мифическая география; часто их нелегко разделить друг от друга или хотя бы установить, какая из них важнее, потому что способы действий людей зависят от их понимания действительности, а это понимание – коль скоро оно никогда не будет исчерпывающим – дополняется и обогащается мифами» (цит. по [7; 169]). Герой-рассказчик Пришвина выступает как путешественник и наблюдатель, имеющий дело с реальным географическим пространством. Перед автором не стоит задачи создать собственный территориальный миф Карелии, но он помещает реальные локусы края в мифопоэтический контекст, актуализируя при этом мифогенные константы исследуемого места.
В одной из своих работ Д. Н. Замятин выдвигает следующее предположение: «Локальный миф, с нашей точки зрения, представляет собой “откровение” места или территории; он есть открытие места миру в его онтологической возможности, и в то же время (или в той же самой вечности) он позволяет утверждаться “своему” месту как Центру мира» [3; 15]. Рассказчик очерков Вы-говского края представляет точку зрения извне. «Центр» автора – это Петербург («петербургский текст» присутствует уже в самых ранних произведениях писателя), Выговский край – безусловная периферия. Однако письменная фиксация местной мифологической и фольклорной традиции делает очерки Пришвина своеобразным «пред-текстом» локального «карельского текста».
Писатель уже с первых строк безошибочно определяет основные природные доминанты региона и следующую за введением главу так и называет – «Лес, вода и камень»:
« – Лесом, водой и камнем мы богаты, – говорит ямщик.
И замирают слова человека. Безмолвие! Лес, вода и камень…» [4; 60].
Исследователи литературы Карелии и местные краеведы неоднократно отмечали доминирование образов-символов воды в структуре «карельского текста» [6]. Пришвин в своих очерках очень активно использует гидронимическую ономастику. В произведении встречаются названия местных озер и прилегающих к ним населенных пунктов: Ладожское озеро, озеро Онего, Белозерск, Волозеро, Маткозеро, Телекинское озеро, Выгозеро, Хижозеро, Надвоицкое озеро, Сегозеро, Пулозеро, Коросозеро и т. д. «Озер-ность» края актуализирует его уникальность и особую локальную специфику, восприятие Карелии как отдельной страны («страна непуганых птиц») или сказочного царства.
Символический природный комплекс «вода», бесспорно, является структурообразующим в описании Карелии в книге «В краю непуганых птиц»: «С этого места, если бы только можно было видеть так далеко, открылась бы грандиозная каменная терраса со ступенями назад, к Балтийскому морю, и вперед, к Белому. Величественные озера выполняют ступени этой гигантской двойной лестницы и переливаются одно в другое шумящими реками и водопадами. Назади узкая лента Долгих озер переливается Повенчанкой в Онежское озеро. Многоводное Онего по Свири стекает в круглую Ладожскую котловину, по-старинному озеру Нево, а оно по коротенькой Неве спускается к Балтийскому морю. Впереди тоже ряд озер: Маткозеро, Теле-кинское, Выгозеро со множеством островов; последнее тремя живописными водопадами переливается в стремительный Выг и стекает к Белому морю. У подножья первого склона террасы – Петербург, а у другого – Ледовитый океан, полярная пустыня. Так рисуется воображению географическая картина этих мест» [4; 60].
Многообразие водных объектов, перечисленных в этом фрагменте, – море, река, озеро, водопад – по ходу повествования дополняется менее значительными по размеру: болотами, ручьями, ламбинами. Каждый из этих природных локусов получает в дальнейшем свое «лицо», а в ряде случаев мифологизируется и символизируется.
Пришвин открывает место в его «онтологической» реальности, а утверждение его как «возможности» и «Центра мира» опирается на местные фольклорные предания, легенды, мифы.
В «карельском тексте» вода является важнейшим первоэлементом, из которого состоит мир, поэтому ряд водных локусов являются для этой территории эмблематичными. В этой связи особое внимание хотелось бы обратить на образ водопада. Благодаря оде Г. Р. Державина «Водопад» Кивач, по замечанию И. А. Разумовой, превращается в эмблему края и «символ Карелии и самой природы» [6]. Пришвин упоминает в очерках онежские водопады – Кивач, Порпор, Гирвас и даже цитирует знаменитую державинскую оду, но со слов «местных литераторов», в отношении к которым прослеживается определенная авторская ирония: «Помню, один при описании Кивача, помянув, как водится, державинское “алмазна сыплется гора”, восклицает вдохновенно: “И не знаешь, чему дивиться, – божественной ли красоте водопада или не менее божественным словам бывшего олонецкого губернатора, из которых каждое есть алмаз”» [4; 52].
Но эти размышления рассказчика предшествуют его личной встрече с Надвоицки-ми водопадами. Непосредственное созерцание этого природного явления ошеломляет героя-рассказчика не меньше, чем «местных литераторов», и в творческом сознании художника рождается емкий символический образ. «Я остался один на каменной глыбе между елями, окруженный бушующей водой.
…Гул, хаос! Трудно сосредоточиться, немыслимо отдать себе отчет, что же я вижу? Но тянет и тянет смотреть, словно эта масса сцепленных частиц хочет захватить и увлечь с собой в бездну, испытать вместе все, что там случится» [4; 69].
Анализируя «водопадный текст», Михаил Ямпольский пишет: «Наиболее устойчивым образом водопада несомненно является образ бездны. Бездна – наивысшее выражение бесформенности, которая первоначально понимается как выражение деградации макрокосма, но постепенно начинает ассоциироваться с возвышенным» [8; 199]. При соотнесении водопада и возвышенного исследователь цитирует немецкого философа Карла Зольгера: «Наполняя нас ужасом, возвышенное в то же время привлекает величием и великолепием того образа, в котором воплотились силы природы. Я до сих пор хорошо помню чувство, которое испытал на Рейне… Я наблюдал, как пенистый поток обрушивается с порогов во- допада. Торжественно и тревожно было у меня на душе; в то же время меня охватило страстное желание погрузиться в эту пучину, которая сразу же за порогами рассыпалась серебряной пылью» [8; 200].
Чувство возвышенного – это чувство удовольствия, связанного со страхом. Пришвинский герой по мере приближения водопадов начинает понимать «всю страшную опасность такой поездки»: «…малейшая ошибка – и конец всему» [4; 69]. Но тем не менее «с замирающим сердцем» рассказчик всматривается в бушующий поток и постепенно начинает различать в нем то, что несет в себе семантику прекрасного. « Возвышенное в водопаде связывается с бесформенностью, хаосом, бурлящей пеной. Прекрасное фиксируется в геометрически правильных формах, которые порождаются из случайного хаоса некой магической силой: в венке, радуге, колоннах или столбах, постоянно возникающих в описании» [8; 200].
Преодолев первое потрясение, герой начинает различать в этом «гуле и хаосе» свою визуальную «геометрию»: «Но, внимательно всматриваясь, замечаешь, что прыгающие брызги у темной скалы не всегда взлетают на одну и ту же высоту… Смотришь на столбики пены. Они вечно отходят в тихое местечко, под навес черной каменной глыбы, танцуют там на чуть колеблющейся воде. Но каждый из этих столбиков не такой, как другой» [4; 69]. Автор предполагает, что на падение воды влияют «какие-то таинственные силы» и весь водопад живет «бесконечно сложной» собственной жизнью.
Образ водопада в тексте очерков Пришвина гораздо глубже прецедентного (державинского) мотива величественной стихии. Пришвиновед Н. П. Дворцова пишет: «Ключевым в повести “В краю непуганых птиц” и во всем творчестве писателя – как исходная для него интуиция мира – является символический образ водопада. Водопад – природно-исторический, а точнее, космический символ Пришвина, в котором раскрывается его представление о судьбе мира и ее постижении человеком: устремленность и движение мира от множества к безусловному единству, от кажущейся бессмысленности к всеобъемлющему смыслу» [2; 16].
Особую символичность водопаду как природному комплексу придает финальная картина книги. Вернувшийся в Петербург автор сравнивает гул Невского проспекта с гулом Надвоиц-ких водопадов. Он замечает, что «божественная красота падающей воды стала понятна только после довольно долгого всматривания в отдельные брызги, в отдельно танцующие в тихих местах столбики пены, когда все они своим разнообразием сказали о единой таинственной жизни водопада» [4; 189]. Водопад становится при-швинским символом единства во множестве.
Рассказчик переносит эту «методологию всматривания» с природы на людей, выделяя в толпе «генерала в красном, трубочиста, барыню в шляпе, ребенка, рабочего и так без конца»: «Вдруг становится легко, разделяющая линия больше не нужна, все понятно. Это не толпа, это не отдельные люди. Это глубина души одного гигантского существа, похожего на человека. Мелькают, сменяются его желания, стремления, ощущения. Но само неведомое существо спокойно шагает вперед и вперед» [4; 180]. Так из «гула и хаоса» жизнетворческим усилием писателя рождается главный образ пришвинского творчества, отражающий авторскую идею Всеединства, – «Весь Человек».
Таким образом, природные доминанты Вы-говского края перерастают в художественном сознании М. М. Пришвина в символические комплексы «карельского текста», являясь одновременно смыслопорождающими контекстами дальнейшего творчества писателя.
STORMY WATERS AS KEYNOTE OF “KARELIAN TEXT” IN MICHAEL PRISHVIN’S BOOK “THE LAND OF UNTAMED BIRDS”
Список литературы Водная стихия как доминанта «карельского текста» в книге Михаила Пришвина «В краю непуганых птиц»
- Абашев В. В. Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX века. Пермь, 2008. 495 с.
- Дворцова Н. П. Путь творчества М. Пришвина и русская литература начала XX века: Автореф. дис.. д-ра филол. наук. М., 1994. 44 с.
- Замятин Д. Н. Локальные мифы: модерн и географическое воображение//Литература Урала: история и современность: Сб. ст. Вып. 4. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. 496 с.
- Пришвин М. М. В краю непуганых птиц (Очерки Выговского края)//Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 1. С. 41-180.
- Пришвин М. М. Дневники. 1905-1954//Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. М.: Худож. лит., 1986. Т. 8. 759 с.
- Разумова И. А. «Под вечным шумом Кивача.» (Образ Карелии в литературных и устных текстах)/Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локальные тексты. М.: Языки славянской культуры, 2004 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.librius.net/b/1747/read
- Щукин В. Г. Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М.: Российская политическая энциклопедия, 2007. 608 с.
- Ямпольский М. Б. Наблюдатель. Очерки истории видения. М.: Ad marginem, 2000. 287 с.