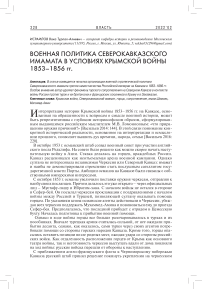Военная политика северокавказского имамата в условиях крымской войны 1853-1856 гг
Автор: Исраилов Ваха Турпал-Алиевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье освещается попытка организации военной стратегической политики Северокавказского имамата против наместничества Российской империи на Кавказе в 1853-1856 гг. Особое внимание автор уделяет феномену горского сопротивления на Северном Кавказе в контексте войны России против турок и их британских и французских союзников в Крыму и в Закавказье.
Крымская война, северокавказский имамат, горцы, сопротивление, имам шамиль, магомед-амин
Короткий адрес: https://sciup.org/170193717
IDR: 170193717
Текст научной статьи Военная политика северокавказского имамата в условиях крымской войны 1853-1856 гг
И нтерпретация истории Крымской войны 1853–1856 гг. на Кавказе, основанная на обращенности к вопросам о смысле военной истории, может быть репрезентативна с глубоким историософским образом, сформулированным выдающимся российским мыслителем М.В. Ломоносовым: «что приращению оружия причиной?» [Васильев 2014: 144]. В этой связи понимание конкретной исторической реальности, основанное на интерпретации и осмыслении прошлого, позволяет выявить дух времени, народа, семьи [Васильев 2016: 220].
В октябре 1953 г. османский штаб созвал военный совет при участии английского посла Редклифа. На совете было решено как можно скорее начать наступательную войну в Азии. Ставка делалась на горцев, враждебных России. Кавказ расценивался как неотъемлемая арена военной кампании. Однако султана не интересовала независимая Черкесия или Северный Кавказ: имамат и наибы не демонстрировали стремление стать послушным сателлитом государственной власти Порты. Амбиции османов на Кавказе были связаны с собственными имперскими интересами.
С октября 1853 г. османы увеличили поставки оружия черкесам, отправляя к наибу своих посланцев. Причем делалось это уже открыто – через официальных лиц – Мустафу-пашу и Ибрагим-хана. С началом войны не остался в стороне и Сефер-бей. Он посылал черкесам прокламации с поздравлениями с началом войны между Россией и Турцией, позволяющей султану оказывать помощь горцам. По указаниям князя османские агенты действовали в Черкесии, убеждая всех черкесов поддержать Мухаммед-Амина и повиноваться ему до приезда Сефер-бея. Предполагалось, что последний прибудет с отрядом в Цемесскую бухту. Началась подготовка к прибытию военной помощи.
Однако в ходе войны горцы все больше разочаровывались в турках и их пособниках. Вначале турецкая армия считалась сильной, от нее ожидали прибытия десанта, однако, как оказалось, сами турки через своих агентов потребовали помощи со стороны горских народов Кавказа. Кроме того, горцы опасались оставить позиции возле родных мест, ожидая удара со стороны российских войск. Как отдаленность расположения горцев от Крыма как основного театра войны, так и неготовность черкесов выступать вдали от дома повлияли на ход войны: русские войска перешли от обороны к наступлению.
С приближением англо-французского флота к Черноморскому побережью Кавказа русский штаб принял решение покинуть укрепления на черкесском побережье, т.к. они не могли устоять против огня европейских боевых кораблей. Береговая линия была демонтирована в первых числах марта 1854 г.
Уже поздней осенью в Черкесию явился уполномоченный капитана Лайонса Брок, в чьи задачи входило войти в контакт с Северокавказским имаматом. В ходе первых переговоров представителей имамата и англо-французских союзников обе стороны уверяли друг друга в необходимости оказания согласованных действий: наиб – против укреплявшейся Кавказской линии, а штаб союзников – в Грузии и в Крыму. Однако изначально наметилось недопонимание в их стратегическом видении ситуации. В результате они ограничились взаимными обещаниями о поддержке.
Весной 1855 г. штаб союзников намеривался создать конную дивизию горцев в составе 6 тыс. всадников с целью применения их в Крыму. Но характер отношений с горцами изменился, в результате этот план потерпел полную неудачу. Выстраивание Северокавказской арены на Кавказском фронте союзникам и османам не удалось. Основные британско-французские силы надолго увязли в Крыму. Черкесские общества негативно восприняли призывы султана принять его подданство и насторожено отнеслись к союзникам. Лишь малая часть черкесов были задействованыь в Абхазии, Грузии и на Тамани. Имамат в течение войны проводил попытки самостоятельных прорывов к Военно-Грузинской дороге. В Грузии турки не продвинулись и были отброшены русскими.
По плану турки собирались занять Юго-Западный Кавказ, но встретили враждебность со стороны грузин и абхазов. Прибытие к ним мусульманской армии османов, а не христианской армии союзников стало серьезным просчетом при попытке сблизиться с ревностными христианами Южного Кавказа, имевшими негативный опыт султанского господства в своей стране: ненависть и презрение питали к туркам даже магометанские племена горцев, а еще более – христиане (абхазы, грузины, имеретинцы и др.). И все же первоочередной расчет антироссийской коалиции в Западно-Кавказском регионе делался на черкесов, которые вели продолжительное сопротивление, в отличие от своих южных соседей, и должны были позитивно воспринять поддержку турок.
В среде западнокавказских горцев происходили внутренние разбирательства и конфликты, которым сопутствовал фактор османских интриг. Получился порочный круг, где Порта, преследуя цель взять контроль над Черкесией, противопоставляла черкесских лидеров друг другу, что приводило к разладу в западнокавказском сопротивлении, который замыкал местных непокорных горцев во внутренних противоречиях, делая их неспособными оказывать серьезную помощь ни британско-французским, ни османским силам.
После провала наступления имама Шамиля в Грузию летом 1854 г. и последующего за этим охлаждения в имамато-османских отношениях, русские войска обезопасили себя от возможного удара со стороны восточнокавказских мюридов.
В районе Кавказского фронта в период Крымской войны имам Шамиль долго не предпринимал активных действий. Главную причину данного обстоятельства русский генерал Р.А. Фадеев видел в том, что левый фланг Кавказского фронта не ослаблялся. Всего на Кавказе тогда находилось около 270 тыс. русских солдат [Фадеев 1860: 58-59], из которых только приблизительно 80 тыс. были на фронте против турок, 30 тыс. – против черкесов, Севастополь защищали менее 200 тыс. [Шеремет 2006: 75].
И все же на Северо-Восточном Кавказе система имамата была достаточно сильна, чтобы перебороть страхи восточнокавказских горцев перед дальним походом и организовать муртазигов (регулярную армию). Долго не решаясь на рискованный шаг, имам скорее всего рассчитывал на выгодный момент для своей грузинской авантюры. Утверждение им решения о выдвижении войск на
Кахетию принималось до того, как русские вышли к Карсу, поскольку только тогда еще имело стратегический смысл сближение с наступающей турецкой армией, о контакте мюридов с которой есть подтверждения царских источников о переписке имама Шамиля с Омар-пашой [Шамиль… 1953: 368-387]. На допросе у русских захваченный посредник между Ведено и Батуми, отвечая на вопрос о планах Шамиля, сообщал: «Ожидается известие из турецкой армии для соображения своих движений. Впрочем, летом, как уже сказано, намерен вторгнуться в пределы России, но куда именно неизвестно» [Шамиль… 1953: 381]. Возможно, посредник что-то не договаривал, а скорее просто не знал о деталях намечавшегося похода мюридов с восточных гор. Сам имам скрывал цель предстоящего похода даже от ближайшего окружения. Согласно летописцу имамата, в день выступления на Кахетию «свои намерения он скрывал от всех» [Мухаммад Тахир аль-Карахи 1941: 231]. Он появился на берегу Алазани в числе «3 тыс. кавалерии и 4 тыс. пехоты» [Шамиль … 1953: 390], где приступил к разорению Кахетии, пока местные азнауры (князья) спешно собирали грузинскую милицию, ожидая подкрепления от русской регулярной армии.
Имам выжидал, оказавшись поблизости и от русско-турецкого фронта, и от Военно-Грузинской дороги. Занимая такую стратегическую позицию, он мог соединиться с турками Омер-паши и черкесами Магомед-Амина и прекратить сообщение с закавказскими губерниями, чтобы подтолкнуть Кавказ к общему восстанию и застать врасплох русских в тылу, нарушить их снабжение. В военных сводках сообщалось: «Между тем носятся слухи, будто горцы имеют намерения переправиться через Дживальский мост и занять Военно-Грузинскую дорогу» [Шамиль… 1953: 399].
Имам находился как никогда близко к достижению ключевой цели стратегического противостояния с Кавказским наместничеством, но действовать надо было быстро. И дальнейшее зависело не от Шамиля. Его мюриды для следующего броска нуждались в помощи турок с юга или черкесов с запада. К моменту активности имама на южном склоне Центрального Кавказа паша не сумел пробиться через русскую оборону в Закавказье, а наиб погряз во вну-тричеркесских делах. Не дождавшись помощи, Шамиль отступил обратно. Единственным достижением его похода в Грузию стали знатные пленники (Орбелиани, Чавчавадзе), которых он обменял на своего сына Джамалуддина, находившегося более 15 лет у русских.
Собрать силы для нового похода через Карачай для встречи с имамом у наиба получилось только спустя год: «В августе Магомед-Эмин решился предпринять смелое дело – завладеть Карачаем» [Магомеддадаев 1998: 22]. Согласно источникам, это был самый масштабный поход, организованный наибом. Тысячи черкесов приковали внимание российского штаба к правому флангу в самый разгар севастопольской драмы. На несколько дней мюридам Амина удалось взять под контроль Карачай, но тут же подоспели части корпуса, заблокировавшие черкесских мюридов в горах: «Я предпринял поход на Карачайские владения… жители подчинились нам, но подоспел Козловский и после трехдневного сражения... отнял у нас Карачай и мы возвратились в Абазех» [Магомеддадаев 1998: 71-72]. Оттуда Магомед-Амин более не выдвигался в ходе войны далее адыгских областей.
Во время оставшейся части Крымской войны ситуация горского сопротивления складывалась следующим образом. Шамиль остался в Ичкерии (ЮгоВосточная Чечня), откуда он контролировал Чечню и Западный Дагестан, и почти не тревожил левый фланг Кавказского фронта. Магомед-Амин пытался удержаться в Абадзехии, посылая мюридов на низменность, чтобы разжигать антифеодальные движения в княжеских землях. Сефер-бей отсиживался в
Натухае. Остальные мирмираны покидали Черкесию, вольные черкесы сократили свои набеги на правый фланг фронта.
Пока британские и французские союзники продолжали осаду Севастополя, русские перешли в наступление на юге Кавказа, пополняя закавказскую армию после того, как окончательно убедились, что чеченцы и дагестанцы не будут пытаться вновь выступать на соединение с турками. Получив сведения о конфликте своего наиба с османскими пашами и о том, что он не сумел выйти к Военно-Грузинской дороге, Шамиль «распустил большие скопища, собранные им в Андии» [Акты кавказской… 1884: 371-372]. Больше имам никак не пытался воспользоваться выгодными обстоятельствами Крымской войны, максимально отдалившись от сотрудничества с султаном.
Список литературы Военная политика северокавказского имамата в условиях крымской войны 1853-1856 гг
- Акты кавказской археографической комиссии (под ред. А.П. Берже). 1884. Тифлис: Типография Главного управления наместника Кавказского. Т. IX. 1013 c.
- Васильев Ю.А. 2014. Идеи М.В. Ломоносова в русской исторической школе. - Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 141-148.
- Васильев Ю.А. 2016. Историка Иоганна Густава Дройзена как методология истории. - Знание. Понимание. Умение. № 2. С. 218-226.
- Магомеддадаев А.М. 1998. Магомед-Амин - наиб Шамиля в Черкесии. - Мухаммад-Эмин и народно-освободительное движение народов Северо-Западного Кавказа в 40-60 гг. XIX века. Махачкала. 278 с.
- Мухаммад Тахир аль-Карахи. 1941. Блеск горских сабель в некоторых Шамилевских газаватах. М.: Изд-во АН СССР. 337 c.
- Фадеев Р.А. 1860. Шестьдесят лет Кавказской войны. Тифлис: Военно-походная типография Главного штаба Кавказской Армии. 150 c.
- Шамиль - ставленник султанской Турции и английских колонизаторов (под ред. Ш.В. Цагарейшвили). 1953. Тбилиси: Госиздат Грузинской ССР. 557 c.
- Шеремет В. И. 2006. Непобежденные: К 150-летию выхода России из Крымской войны 1853-1856 гг. М.: РГЮБ. 148 c.