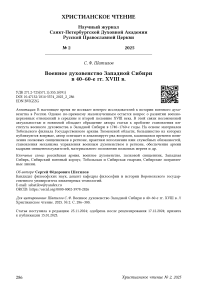Военное духовенство Западной Сибири в 40–60‑е гг. XVIII в.
Автор: С.Ф. Шатилов
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История России и Русской Церкви
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
В настоящее время не иссякает интерес исследователей к истории военного духовенства в России. Однако по-прежнему малоизученным остается вопрос о развитии военноцерковных отношений в середине и второй половине XVIII века. В этой связи несомненной актуальностью и новизной обладает обращение автора статьи к проблеме становления института военного духовенства в Западной Сибири в 1740–1760‑е годы. На основе материалов Тобольского филиала Государственного архива Тюменской области, большинство из которых публикуются впервые, автор освещает и анализирует ряд вопросов, касающихся времени появления полковых священников в регионе, практики исполнения ими служебных обязанностей, становления механизма управления военным духовенством в регионе, обеспечения армии кадрами священнослужителей, материального положения полковых иереев и др.
Российская армия, военное духовенство, полковой священник, Западная Сибирь, Сибирский военный корпус, Тобольская и Сибирская епархия, Сибирские пограничные линии
Короткий адрес: https://sciup.org/140309617
IDR: 140309617 | УДК: 271.2-725(571.1):355.1(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_286
Текст научной статьи Военное духовенство Западной Сибири в 40–60‑е гг. XVIII в.
Неугасающий интерес исследователей к истории института военного духовенства в России в XVIII — нач. XX в., во многом связанный с практикой его возрождения в современных Вооруженных силах нашей страны, определяет актуальность этой проблемы и делает ее весьма востребованной как в российской исторической науке в целом, так и в истории Русской Православной Церкви в частности. Однако значительное количество опубликованных в последние годы трудов, посвященных этой теме и раскрывающих ее различные аспекты, за редким исключением, сосредоточено на рассмотрении общих вопросов военно-церковных отношений, анализе законодательства о военном духовенстве и т.д. Вне фокуса научного интереса исследователей, и по этой причине малоизученными, часто остаются проблемы повседневной практики развития института военного духовенства в местах расположения воинских соединений на территории России в XVIII в. Расширению сферы исследования темы может способствовать обращение к материалам региональных архивов, позволяющих изучить ряд вопросов, касающихся управления полковыми священниками, практики исполнения ими служебных обязанностей, их материального положения и др. В этой связи несомненной новизной обладает предпринятое в данной статье привлечение материалов Тобольского филиала Государственного архива Тюменской области (ТФ ГАТО), позволяющее реализовать основную цель данной статьи — анализ функционирования института военного духовенства в Западной Сибири в 40–60-е гг. XVIII в.
До сер. 1740-х гг. представителей военного духовенства в Сибири не было. Регулярные войска на ее территории в этот период были представлены только гарнизонными частями — Сибирским и Новоучрежденным драгунскими полками, Тобольским, Енисейским и Якутским пехотными полками и Новоучрежденным пехотным батальоном. Их подразделения были расквартированы вдоль южных российских границ в Западной и Восточной Сибири. Они считались резервом полевых частей и были предназначены для несения внутренней службы в городах, слободах, крепостях и форпостах, а также для защиты приграничных территорий от внешних вторжений [Зуев, Дмитриев, 2012, 19].
Хотя гарнизонные полки входили в состав регулярной армии, в них, в отличие от полков полевых, должности полковых священников не были предусмотрены штатами, утвержденными правящим монархом (ПСЗРИ. Собр. I. Т. VI. № 3511). Предполагалось, что духовное окормление их личный состав получит от приходского духовенства тех населенных пунктов, где подразделения будут располагаться.
Но реальные условия несения военной службы в Сибири — с ее огромными расстояниями, редкими населенными местами, малочисленными церквями и дефицитом кадров священнослужителей — создавали немало проблем в решении духовных дел. Так, о трудностях в отправлении веры офицерами и рядовыми служащими в августе 1743 г. в находящуюся в Тобольске Сибирскую губернскую канцелярию докладывал командир Сибирского гарнизонного драгунского полка полковник Яков Павлуцкий. Его штаб-квартира располагалась в слободе Царево Городище на реке Тобол (юг Западной Сибири). В единственной слободской церкви был только один приходской священник, окормлявший как население своего прихода, так и расквартированных здесь драгун. Хотя Сибирский полк был гарнизонным, тем не менее он часто находился в «многотрудных движениях» и походах, длящихся иногда месяцами, вдали от основных мест размещения, и тогда его подразделения подолгу оставались без духовного попечения [Шатилов, 2016б, 105]. Поэтому и просил полковник Павлуцкий губернскую канцелярию ходатайствовать перед митрополитом Сибирским и Тобольским Антонием (Норожницким) о назначении в полк особого священника, который мог бы совмещать служение в приходе с участием в военных походах, получая за это материальное содержание от полковых «штап и обер и унтер офицеров и драгун» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 93. Л. 2 об).
На обращение губернской канцелярии к митрополиту с просьбой назначить в Сибирский полк отдельного священника из Тобольской духовной консистории пришел отказ. Ссылаясь на отсутствие в епархии свободных священников, консистория в то же время не исключала, что «ежели впредь приищется священник свободный», и «на подъем и на подводы… прогонные деньги из Сибирской губернской канцелярии выданы будут», и «жалованием, чем ему можно быть довольным, требователи удовольствуют» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 93. Л. 3); [Шатилов, 2016б, 105], сложившуюся ситуацию можно будет разрешить.
Только после повторного обращения полковника Павлуцкого в ноябре 1743 г. уже лично к самому митрополиту владыка все же принял решение возложить обязанности участия в походах на главу царевогородищенского заказа (духовного правления) протопопа Иоанна Антонова с «его товарищем» по желанию, при условии, если будет «объявлено награждение довольное и лошади готовые» предоставлены. В случае же слишком продолжительных походов самому заказчику запрещалось покидать далеко и надолго свой заказ, а вместо себя предписывалось «отправлять товарища своего» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 93. Л. 7).
Таким образом, в условиях отсутствия в гарнизонных полках военного духовенства тобольское епархиальное начальство вынуждено было изыскивать возможности для удовлетворения духовных потребностей полковых служителей посредством привлечения местных священников. Только в 1764 г. гарнизонные полки были переведены в разряд полевых войск и в их штаты были включены должности полковых священников (ПСЗРИ. Собр. I. Т. XVI. № 11979).
К сер. 40-х гг. XVIII в. обострилась политическая обстановка в Центральной Азии, в результате чего возникла угроза нападения воинственных соседей на восточные территории Российской империи. В этих условиях правительство принимает решение укрепить оборону южных и юго-восточных рубежей страны путем увеличения количества регулярных войск в сибирском регионе. С этой целью из европейской части России в Западную Сибирь в кон. 1744 — нач. 1745 гг. были переброшены пять полевых полков: три драгунских — Вологодский, Луцкий и Олонецкий, и два пехотных — Нотебургский и Ширванский. Перед отправкой в Сибирь эти полки дислоцировались в разных губерниях Европейской России: пехотные — в крепости Св. Анны в Бахмутской провинции Воронежской губернии; драгунские Луцкий и Вологодский — в Казанской губернии, Олонецкий — в Нижегородской [Дмитриев, 2012, 49; Шатилов, 2016а, 106; Шатилов, 2016б, 22].
В марте 1745 г. сибирские гарнизонные части переместились на Верх-Иртышскую и Колывано-Кузнецкую пограничные линии, освободив прежние места дислокации вошедшим в Тобольскую губернию полевым полкам. В результате прибывшие полки расположились в следующем порядке: пехотные — Ширванский в Тобольске, Ноте-бургский — в подгорном Тобольском дистрикте; драгунские — Вологодский в Тюмени, Луцкий — в Туринском уезде, Олонецкий — в Краснослободском дистрикте [Андрейчук, 2011, 39].
Вместе с военными полевыми частями в Западную Сибирь на каноническую территорию Тобольской и Сибирской епархии прибыли и первые представители военного духовенства — полковые священники Епифаний Ярцев (Ширванский пехотный полк), Петр Львов (Нотебургский пехотный полк), Василий Лукин (Вологодский драгунский полк), Никита Борисов (Луцкий драгунский полк) и Петр Васильев (Олонецкий драгунский полк).
Все священники при полках являлись представителями белого духовенства, монашествующих среди них не было, но отличались по своему семейному положению: среди них оказались как вдовые, так и семейные, прибывшие на новые места вместе с семьями; а также и по взрасту, который на момент их вступления в Сибирь составлял от 43 (свящ. Никита Борисов) до 68 (свящ. Василий Лукин) лет.
Разными были и сроки их пребывания в полках. Так, наиболее продолжительным стажем полковой службы, который на 1744 г. составлял 14 лет, обладал иерей Луцкого драгунского полка Никита Борисов. Во священника он был рукоположен в 1722 г., а в Луцкий полк определен в возрасте 28 лет в 1730 г. и с тех пор в походах с полком прошел не одну тысячу верст: из Казанской губернии — в Польшу, затем в Крымский поход, в Очаковский, Днестровский, Хотинский, через Малороссию — в Смоленск, Санкт-Петербург, далее опять в Казанскую губернию и, наконец, — в Сибирь (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1476. Л. 6). Меньше всего при своих полках успели прослужить священники Олонецкого драгунского полка Петр Васильев и Вологодского драгунского полка Василий Лукин: оба они были определены на свои должности в период с июня по сентябрь 1744 г., т. е. перед самой отправкой в сибирский поход. Все полковые иереи были уроженцами тех губерний, где эти полки ранее квартировали либо останавливались на марше: Казанской, Нижегородской и Воронежской.
В соответствии с указом «блаженной и вечнодостойной памяти Государыни Императрицы Анны Иоанновны из Святейшего Правительствующего Синода» от 23 января 1733 г., полученным в Тобольске 19 апреля того же года и регламентирующим отношения военного духовенства с властями той епархии, где предстояло квартировать или пробыть не менее двух недель, каждый полковой священник был обязан, «не расставляя походной церкви», немедленно явиться к епархиальному архиерею или, «за дальностью места», в ближайшее той епархии духовное правление и «объявить о себе письменно, когда и при ком прибыл». Кроме того, властям он должен был предоставить ставленную грамоту и указ об определении его в полк — «грамоту переводную». В случае отсутствия указанных документов такого «подозрительного» священника следовало отправить к архиерею для выяснения всех обстоятельств. Если обнаруживалось, что подозрения имеют реальные основания, то виновного надлежало к «той его бывшей команде не допускать», а оправлять вместе с материалами следствия к архиерею той епархии, где он был рукоположен и назначен на службу в полк, там и должно было приниматься решение о его дальнейшей судьбе (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1573. Л. 15). Положения указа также требовали, чтобы в случае если даже священник окажется «правильно во священство произведенным» и к полку «по надлежащему определенным», запрашивать у полкового командования письменное свидетельство о его исправности в должности и личном «доброжитии» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1573. Л. 16).
Однако анализ архивных документов, хранящихся в фонде И-156 «Тобольская духовная консистория» ТФ ГАТО, показывает, что на местах требования указа в надлежащем объеме не исполнялись. Так, священник Нотебургского пехотного полка Петр Львов после вступления его части в Сибирь в 1745 г. незамедлительно подал митрополиту Тобольскому и Сибирскому доношение о своем прибытии и предъявил ставленную грамоту, с которой была снята для консистории копия. При этом указ о назначении его в полк и письменное свидетельство от командования о его служении он не предоставлял, а духовные власти его не требовали (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 774. Л. 2–3). И только по прошествии почти пяти лет, когда в 1751 г. он обратился в Тобольскую духовную консисторию для решения служебного вопроса, от него запросили немедленной присылки письменного свидетельства от полковых командиров о его «добросостоянии». Поскольку полк в это время находился уже на расстоянии более тысячи верст от Тобольска на Верхне-Иртышской укрепленной линии, где полковой штаб расположился в Ямышевской крепости, это свидетельство срочно так и не доставили. Ямышевскому десятоначальнику свящ. Тимофею Седачеву позже пришлось по заданию консистории неоднократно обращаться к командованию полка с просьбой выдать свидетельство для отсылки в Тобольск (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 774. Л. 5).
В июне 1754 г. подал прошение об увольнении 77-летний священник Вологодского драгунского полка Василий Лукин. На службе он находился с сентября 1744 г. и был определен в полк в Казанской губернии перед самым походом в Сибирь. При увольнении оказалось, что ставленной грамоты и указа о назначении в полк у него при себе не имелось вовсе. В ходе разбирательства в Тобольске выяснилось, что рукоположен во священника он был в 1727 г. митрополитом Казанским и Свияжским Сильвестром к церкви Солдатской слободы Симбирского уезда Казанской губернии, на что грамота о рукоположении была ему дана. Однако «за скорым из Казани… в помянутый Вологодский драгунский полк отправлением» он оставил ее в доме своего сына, священника села Нагирина Казанского уезда Симеона Васильева, или, попросту, — забыл. В полк же он отправлен был с выданным Казанской духовной консисторией «пашпортом», который хранился в полковой канцелярии, никакого же указа о назначении он не получал. Из консистории полковому командованию лишь сообщили промеморией, что «священник Лукин определен к вышеписанному полку». В итоге престарелый иерей был отпущен в Казань с обязательством по прибытии явиться там для объяснения к казанскому преосвященному, а до этого «нигде не дерзать» служить, даже в «высокоторжественные дни и викториальные числа, где случится быть во облачении на литиях и молебствиях» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1573. Л. 18).
Важным служебным документом, которым должны были руководствоваться полковые священники в осуществлении своих обязанностей, была инструкция, выдаваемая каждому назначенному в полк духовной консисторией той епархии, откуда он направлялся. Впервые такая инструкция, составленная при кафедре киевского митрополита Рафаила Заборовского, была выдана по указу Св. Синода в 1743 г. в Санкт-Петербургской епархии [О духовенстве, 1873, 73-74]. Она состояла из 12 пунктов с перечислением того, что должно исполнять священнику, чего необходимо придерживаться, а чего избегать. Однако и этот порядок на практике иногда нарушался. Так, упомянутому выше священнику Вологодского полка Василию Лукину Казанской духовной консисторией, определившей его на службу, инструкции дано не было. У священника Луцкого драгунского полка Никиты Борисова на момент смены его другим священником инструкции также не оказалось. Когда назначенный на его место иерей, во исполнение консисторского указа, потребовал от него положенный документ, то получил от свящ. Н. Борисова следующий ответ: «инструкции никакой не имел и ниоткуда дано не было» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1476. Л. 20). Только один из полковых иереев обладал «полным набором» необходимых в соответствии с указом документов — священник Ширванского пехотного полка Епифаний Ярцев. Увольняясь в 1750 г. со службы, он предъявил в духовную консисторию ставленную грамоту, переводной указ, данный от офицеров полка аттестат и инструкцию, с которых были сняты копии для консисторского архива (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 575. Л. 1 об.).
Положениями указа 23 января 1733 г. полковому священнику запрещалось осуществлять священнослужение и исправлять церковные и мирские требы где-либо, кроме своей парохии, «дабы от того приходским священникам в надлежащих им доходах не происходило недостатка» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1573. Л. 15 об.). Об этом он давал письменное обязательство. Это ограничение конкретизировалось и дополнялось вторым пунктом выдаваемой ему инструкции, запрещавшим служить в других церквях, кроме тех случаев, когда полк будет находиться на винтер-квартирах в разных местах или когда, по причине отсутствия там священника, возникнет срочная нужда «священнодействовать и требы отправлять», но только с ведома тех духовных правлений, в подчинении которых эти церкви состоят (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1476. Л. 23). В подобных случаях священник должен был получить разрешение от правящего архиерея на совершение таких действий. Именно поэтому священник Нотебургского пехотного полка Петр Львов по прибытии в Сибирь в 1745 г. сразу же обратился к митрополиту Тобольскому и Сибирскому за благословением «священнодействовать» в Тобольской епархии во время «непостановления» полковой походной церкви в храмах, «где оный полк находиться будет». А в 1751 г., когда Нотебургский полк покинул Тобольский подгорный дистрикт и был рассредоточен по крепостям и редутам Верхне-Иртышской линии, вновь запросил разрешение служить в церквях, находящихся в местах нового расположения полка (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 774. Л. 2–3).
К сер. 40-х гг. XVIII в. в Тобольской епархии вместе со своими полками находились пять полковых священников. Состав полков на протяжении последующих двух десятилетий постоянно менялся. В 1754 г. Нотебургский и Ширванский пехотные полки были возвращены из азиатской части России в европейскую. В 1758 г. в Сибирь был введен Троицкий драгунский полк, разместившийся первоначально на Тобольской дистанции Ново-Ишимской линии. Священником в нем служил Иоанн Григорьев (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 2. Д. 1696. Л. 2).
В 1764 г. гарнизонные драгунские полки были преобразованы в полевые и в них были введены должности полковых священников. К Сибирскому драгунскому полку был определен приходской священник Семипалатной крепости Федор Серебрянников (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 2. Д. 987. Л. 1), к полку Колыванскому (бывшему Новоучреж-денному драгунскому) — приходской священник Бийской крепости Михаил Силин (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 2. Д. 960. Л. 4).
К 1765 г. в Западную Сибирь из европейской части страны были переброшены еще два полевых драгунских полка — Азовский и Ревельский [Зуев, Дмитриев, 2012, 22]. С полками прибыли священники Самсон Иванов и Лука Иванов (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 2. Д. 1277. Л. 1; Д. 2475. Л. 1).
В подчинении тобольского архиерея состояло также Троицкое духовное правление Исетской провинции Оренбургской губернии, которое под своим началом имело ряд крепостных церквей Уйской укрепленной линии. С 1768 г. по август 1771 г. службу в укреплениях этой линии несли подразделения Шешминского драгунского полка. Полковым священником в нем в 1768 г. состоял Федор Петров (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 2. Д. 2127. Л. 2). Всего же при своих полках во 2-й пол. 60-х гг. XVIII в. в Тобольской епархии находились 9 иереев.
В XVIII в. в военном отношении регулярные войска, размещенные в Сибири, подчинялись Военной коллегии, осуществлявшей управление ими через сибирского губернатора. Что же касается вопросов отправления веры, на армейские подразделения, находившиеся в Западной Сибири, распространялась власть правящего архиерея Тобольской епархии, а в Восточной Сибири — епархии Иркутской и Нерчинской.
В соответствии с синодальным указом от 25 января 1733 г. все проблемы, связанные с духовным окормлением военнослужащих армейских полков, квартировавших или проходивших маршем по территории епархии, должны были решать тобольские духовные власти. Управление полковыми священниками, которые, вступив в Сибирь, оказывались в подчинении тобольского архиерея и обязаны были ему подчиняться наравне с местным епархиальным духовенством «без всякого изъятия и исключения», представляло собой в первую очередь контроль за их деятельностью, или «достодолжное над таковыми надсмотрение», осуществлявшееся до тех пор, пока они «в тех местах с упомянутою парохиею пробудут» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1573. Л. 16).
Кроме того, этим указом духовному начальству епархии предоставлялось право в случае увольнения или смерти полкового иерея определять на освободившееся место священнослужителей из числа местного епархиального духовенства. Тобольский митрополит, по поступившим от командиров полков обращениям, своим указом увольнял и назначал на вакантные места священников. Также за проступки и преступления против должности и благочестия полковые священники подлежали духовному суду. В Тобольске архиерей осуществлял суд над провинившимися священниками, поставленными им в полки из «своего» — местного духовенства, назначенных же на службу в других местах отсылали для суда к их епархиальным владыкам.
В 1745 г. все дислоцировавшиеся в Сибири войска были включены в состав образованного для управления ими Сибирского корпуса [Андрейчук, 2011, 38]. Фронт их расположения проходил вдоль южно-сибирских границ, общая протяженность которых от Урала до Амура составляла почти 4 тыс. верст. На территорию Западной Сибири приходилась часть этих рубежей длиною около 2 тыс. верст. Командующий корпусом вместе со своим штабом располагался в Омской крепости на Верхне-Иртышской линии, на расстоянии более 600 верст от Тобольска. Теперь решение вопросов исповедания веры военными осуществлялось через посредничество командующего: командиры полков в случае необходимости должны были обращаться с рапортом, изложив суть проблемы, к корпусному командиру, а тот, в свою очередь, в Тобольскую духовную консисторию либо лично к митрополиту.
Еще с 1730-х гг. с целью обеспечения безопасности процесса колонизации Сибири российское правительство начало строительство укрепленных линий вдоль южных границ региона. Сибирские линии представляли собой череду крепостей, форпостов, редутов, станцев и маяков, растянувшуюся от Оренбургской губернии до Алтайских гор и полностью прикрывавшую на юге Западную Сибирь от кочевых народов Центральной Азии — джунгар и казахов. К кон. 60-х гг. XVIII в. в Западной Сибири существовали три укрепленные пограничные линии — Новая Сибирская (Тоболо-Ишимская), Верхне-Иртышская и Колывано-Кузнецкая, общая протяженность которых составляла почти 2 тыс. верст [Андрейчук, 2011, 38]. В линейных укреплениях была размещена большая часть регулярных войск Сибирского корпуса. По «расписанию» от 27 мая 1754 г. Луцкий драгунский полк дислоцировался на Верхне-Иртышской линии, Вологодский и Олонецкий драгунские — на Новой Сибирской, на старых же сибирских линиях — Тарской, Ишимской и Тобольской, расположились отдельные команды Луцкого и Вологодского полков [Зуев, Дмитриев, 2012, 20].
Находившиеся на линиях при своих полках священники были приписаны, по близости расположения, к одному из духовных правлений (заказов, десятоначальств) Тобольской епархии. Главы правлений — заказчики и десятоначальники, строго надзирали за их деятельностью и в случае нарушения установленных требований немедленно ставили в известность духовную консисторию или самого архиерея.
Нередко огромные расстояния, иногда доходившие до сотен верст, отделяли военных священников и от самих духовных правлений, в ведении которых они находились, что создавало многочисленные трудности в наблюдении за их служением, препятствовало скорой доставке переписки, присылке в срок многочисленной отчетной документации, посещению полковых церквей заказчиками и пр. [Шатилов, 2016а, 106; Шатилов, 2016б, 23]. Военное командование также испытывало неудобства при решении неотложных проблем военнослужащих, например, желающим вступить в брак необходимо было лично явиться в духовное правление для получения венечных памятей, что из-за больших расстояний и опасного пути было невозможно осуществить; также и процесс назначения в полки новых священников часто занимал несколько месяцев [Шатилов, 2016б, 106].
Так возникла потребность в создании в Тобольской епархии специальной административно-управленческой структуры, предназначенной для руководства военным духовенством в регионе. Причины организации этой структуры были подробно описаны автором в ряде более ранних публикаций [Шатилов, 2016а; Шатилов, 2016б]. Инициатива в этом вопросе принадлежала командиру Сибирских пограничных линий генералу И. И. фон Веймарну, который в мае 1760 г. предложил митрополиту Тобольскому и Сибирскому Павлу (Конюскевичу) для более быстрого решения духовных дел создать в Омской крепости особый заказ, однако решить этот вопрос по различным причинам тогда не удалось (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 907. Л. 2).
Возвратиться к этой проблеме стало возможным в 1764 г., когда Тобольская духовная консистория поставила в известность митр. Павла, что Тарское духовное правление на протяжении последних нескольких лет постоянно задерживает, а то и вовсе не присылает необходимых документов и отчетов. Причиной создавшейся ситуации называлась дальность расположения некоторых церквей, в том числе и полковых, от правления [Шатилов, 2016б, 23]. Новый духовный заказ предлагалось разместить в Омской крепости как «первейшем и лучшем по линии месте», где и «главнокомандующий над войском генералитет свое пребывание имеет», и включить в его состав все крепостные и полковые походные церкви вместе со священниками. Чиновники консистории, ссылаясь на 29-ю главу воинского Устава 1716 г., гласившую, что «при фельдмаршале или командующем генерале должен быть обер-священник, который управлять имеет над всеми полевыми священниками» (Устав, 1716, 178), предлагали назначить руководителем правления одного из представителей полкового духовенства.
В итоге митрополичьим указом от 25 июля 1764 г. в Омской крепости был создан особый заказ, управлять которым был поставлен бывший священник Вологодского драгунского полка Иаков Скрябин [Шатилов, 2016а, 107], который «в семинарских училищах обучался, и жития и состояния доброго, и теми заказными делами управлять может». От духовной консистории посвященный в сан протопопа о. И. Скрябин получил состоящую из 42 пунктов инструкцию, на основании которой ему предстояло осуществлять свою деятельность. В ней он именовался протопресвитером (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 907. Л. 12). До нач. 70-х гг. XVIII в. Омское духовное правление оставалось «особливым заказом», управлявшим церквями епархии, большая часть которых была крепостными и полковыми. Под началом этого заказа состояло все военное духовенство Западной Сибири [Шатилов, 2016а, 107; Шатилов, 2016б, 25].
Материалы Тобольского архива позволяют выявить некоторые особенности комплектования российской армии священнослужителями во 2-й пол. XVIII в. Пожелавший уволиться со службы полковой священник подавал покорнейшее прошение или челобитную на высочайшее имя, в которой подробно излагал свой послужной список и указывал причину увольнения. К челобитной прилагался аттестат о добропорядочном исполнении им обязанностей, подписанный офицерами полка. Командование полка отправляло челобитную и аттестат в Тобольскую духовную консисторию, одновременно ставя в известность командира Сибирского корпуса рапортом, в котором, изложив суть дела, просило в случае увольнения священника без промедления определить в полк другого, обязательно «искусного и учительного». Так, в июне 1754 г. с просьбой об увольнении со службы к своему полковому начальству обратился священник Вологодского драгунского полка, расквартированного в крепости Святого Петра на Ново-Ишимской линии, Василий Лукин. В своей челобитной в качестве причины оставления службы он называл преклонный возраст и связанные с ним болезни. На момент подачи прошения ему было 77 лет. В челобитной он пишет: «по таким моим престарелым летам пришел в крайнее изнеможение, понеже по большей части нахожусь болен, а и в руках имею великую ломоту, что с немалою опасностью святой сосуд с пречистым телом и кровью Спасителевою во время великого выхода, выносить могу». В выданном ему офицерами полка аттестате говорилось, что «по должности священнической всегда находился в исправности и ни в каких продерзостях и штрафах не бывал», однако ныне «по старости лет бывает часто болен и исправляться по требам в полку более не может» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1573. Л. 2–2 об., 3). Походная канцелярия командира Сибирского корпуса, в свою очередь, отправила в Тобольскую духовную консисторию промеморию, в которой просила, чтобы на место Лукина «к немалой пастве священник в полк Вологодский был определен незамедлительно» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1573. Л. 1).
В соответствии с указом от 23 января 1733 г. назначать на службу в полки следовало священника из числа епархиального духовенства «незазорного жития и звания своего беспорочно содержащего» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1573. Л. 16). Кроме того, полковые командиры требовали назначенца, прошедшего обучение в семинарии. Однако отсутствие свободных кадров священнослужителей часто приводило к определению в полки кандидатов, не имеющих ни должного образования, ни опыта служения. В 1760 г. вместо пожелавшего постричься в монашество овдовевшего иерея Алексея Филиппова в Вологодский драгунский полк был определен молодой священник Крестовоздвиженской церкви Чернолуцкой слободы Тарского духовного правления Иван Лапин. В сан он был посвящен из пономарей по выбору прихожан в декабре 1759 г., а уже летом 1760 г. направлен в Вологодский полк. На место он прибыл еще до отъезда прежнего священника о. А. Филиппова и все службы церковные исполнял под руководством последнего, что для полковых офицеров стало показателем его служебной несостоятельности. С возмущением они докладывали полковому командиру Томасу Девилленеву, что свящ. И. Лапин «во исправлении священнодейств, как видно, по недавнему в чин священнический рукоположению, весьма необыкновенен» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 3011. Л. 3).
В своем письме митрополиту Тобольскому и Сибирскому полковник Девилленев писал, что свящ. И. Лапин «касающих духовного чина семинарских наук, кроме словенской грамоты не знает» и по этой причине не может не только «полковых служителей учением своим приводить... к истинному пути спасения и впадших в погреше-ние… от погрешностей воздерживать, но и сам еще по необыкновенности священного сана учеником должен быть», и просил на его место назначить другого, «который бы был состояния доброго и трезвого и священнослужения искусного и ученого семинарии». В результате свящ. И. Лапин был возвращен на прежнее место служения, а вместо него в полк определен опытный, имевший за плечами курс семинарских наук, служивший до этого в Тобольском кафедральном Успенском соборе иерей Иаков Скрябин (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 3011. Л. 2об. — 3 об.).
Имели место случаи определения в полки священников, ранее побывавших под следствием или церковным судом. Так, уже после назначения в марте 1754 г. на вакантное место в Луцкий драгунский полк священника тобольского подгорного села Гилевского Матфея Удинцова выяснилось, что прежде он неоднократно подвергался духовными властями наказаниям за «неблаговидные» дела и поступки (ТФ ГАТО. Ф. И-156, Оп. 2. Д. 85. Л. 23).
Из-за длительного подбора нужного кандидата, бюрократической волокиты и больших расстояний процесс смены священников часто занимал несколько месяцев. Тогда командование полков обращалось в духовную консисторию с просьбой обязать находящихся поблизости местных приходских священников осуществлять духовное окормление полковых служителей до прибытия нового иерея.
Желание приходских священников устроиться на службу в полки часто диктовалось крайне тяжелым их материальным положением. Обратившийся в августе 1754 г. к митр. Сильвестру священник села Нововоскресенского Екатеринбургского заказа Алексей Филиппов в своем доношении просил определить его в Луцкий драгунский полк по причине невозможности прокормиться на назначенные ему вместе с причетниками пять рублей в год (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1573. Л. 20). Согласно «Высочайше утвержденному штатному положению о генералитете, генеральном штабе, полевой армии и гарнизонных полках» от 9 февраля 1720 г. жалование священника в армейских (драгунских и пехотных) полках составляло 66 руб. и три рациона в год (ПСЗРИ. Собр. I. Т. VI. № 3511). Такой размер годового дохода полкового священника оставался практически неизменным вплоть до кон. XVIII в. Назначенному в Вологодский драгунский полк в 1760 г. свящ. Иакову Скрябину было определено жалование от казны в размере 82 руб. 20 коп. годовых, оно включало в себя 66 руб. собственно жалования и 16 руб. 20 коп. денежного выражения трех рационов (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп.1. Д. 3011. Л.18). Доход же приходских священников, состоящих в штатах крепостных церквей, например на Верхне-Иртышской линии, и получавших жалование от казны, в 1759 г. составлял только 10 руб. денег и хлеба 7 четвертей ржи и 7 четвертей овса в год (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 2. Д. 987. Л. 1). Священники приходов сельских, как правило, жалованья от казны вовсе не получали и жили за счет руги, т. е. содержались прихожанами. Поэтому размер жалования полковых священников был для них очень привлекательным, о тяготах полковой службы они, просясь в полки, часто не задумывались.
К кон. 60-х гг. XVIII в. в армейских полках, находящихся на территории Западной Сибири, должности полковых священников стали занимать представители местного сибирского приходского духовенства. Тобольским епархиальным властям приходилось прилагать немало усилий, чтобы в условиях дефицита кадров находить на освобождающиеся вакансии достойных кандидатов.
Архивные материалы дают наглядное представление и о содержании будничного служения священников в армейских подразделениях. Некоторые из них еще до вступления в Сибирь вместе со своими полками находились в непосредственных местах боевых действий, в дальних и длительных заграничных походах, преодолевая вместе с войсками горные и водные преграды. Участие в этих событиях описывал в своей челобитной священник Луцкого драгунского полка Никита Борисов. Со своим полком он делил тяготы нескольких польских походов 1734–1736 гг., событий русско-турецкой войны 1735-1739 гг., русско-шведской войны 1741-1743 гг. (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1476. Л. 6).
Хотя на территории Западной Сибири больших военных действий в период 40-60-х гг. XVIII в. не происходило, тем не менее охрана границ огромной протяженности представляла нелегкую задачу для полевых полков. Начиная с 1744 г. эти полки выполняли часто несвойственные им функции полков гарнизонных, будучи дислоцированными в городах и форпостах Сибирской губернии. С 1749 г. начинается их вывод на укрепленные линии: вначале на Верхне-Иртышскую, в 1752 г. на строящуюся Новую Сибирскую (Тоболо-Ишимскую), а затем и на Колывано-Кузнецкую. Тяготы частых перемещений приходилось нести и полковым священникам. В своем прошении священник Вологодского драгунского полка Василий Лукин отмечал, что за годы служения с полком в Сибири побывал во многих «частых переездах», которые могли происходить в любое время года, поэтому пришлось ему пережить и сильные степные морозы, а «весною при переправах и крайние опасности» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1573. Л. 3). Иерей Луцкого полка Никита Борисов так описывал свои постоянные перемещения с полком в Сибири: «в 744-м году в Сибирскую губернию в город Туринск в Тюменском уезде, и в Ялуторовском дистрикте, и на Тобольских форпостах, в 749-м году на Иртышской линии при Чернолуцкой слободе, в 752-м году на вновь прожектированной линии при вновь строящихся крепостях и редутах, в прикрытиях в киргизской степи, в 753-м году с ишимских форпостов на вверх иртышские крепости в Ямышев» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1476. Л. 6).
Постоянная передислокация военных частей была одной из особенностей несения пограничной службы в Западной Сибири. Командование считало, что полки не должны были находиться долгое время на одном месте, поскольку это могло привести к разложению дисциплины. Частое перемещение войск было вызвано также необходимостью обеспечения безопасности границы малыми военными силами. Обычно подразделения полка, заняв определенную часть пограничной линии, рассредоточивались по ее отдельным укреплениям. Из-за большой протяженности обеспечить полноценное прикрытие границ было невозможно, поскольку в малых укреплениях и при маяках иногда состояли команды в 4–5 человек личного состава [Андрейчук, 2011, 41].
Священники со своими походными церквями находились, как правило, в крупных крепостях при полковых штабах. Уже оттуда они обязаны были совершать разъезды в многочисленные подразделения полка, располагавшиеся в других укреплениях. Обычно это происходило в периоды постов, особенно по Великим четыреде-сятницам, то есть в Великий пост. Во время таких посещений они совершали богослужения, исповедовали и причащали полковых служащих, исправляли требы. Иногда же приходилось и срочно выезжать в ближние или дальние подразделения полка для того, чтобы крестить младенцев, наставлять болящих, напутствовать умирающих и т. д. Расстояния между укреплениями были значительными: от нескольких десятков до полутора сотен верст [Шатилов, 2016б, 106].
В исполнении своих обязанностей полковые священники руководствовались воинским Уставом 1716 г., Артикулом воинским 1715 г. и инструкцией, полученной от епархиального архиерея при назначении на должность. Глава 64-я Устава «О молитве, как и в которое время отправлять» обязывала: «в 9-м часу перед полуднем должен священник литургию отправлять при каждом полку» (Устав, 1716, 224). Артикул 9-й уточнял, что богослужения следует отправлять «во вся утра и вечеры и полдень» с пением и молением (Артикул, 1715, 754). В воскресные дни и великие праздники следовало служить вечерни, а в господские — вечерни и утрени. Случаи непроведения богослужений могли быть оправданы только условиями военной службы, когда приходилось отступать от правил, являющихся обязательными для «духовных и свободных людей». Если невозможно было собрать вместе всех служащих полка, подразделения которого были разбросаны по дальним укреплениям, а также стоящих в карауле, то установленные молитвы читались по ротам и командам, в зависимости от ситуации, под контролем офицеров. Повседневные же часы, вечерни и заутрени священники отправляли дома. За неосуществление богослужения без серьезного на то оправдания священника наказывали рублевым штрафом в пользу госпиталя за каждый случай нерадения (Артикул, 1715, 755).
Инструкция, выданная в 1754 г. в Тобольской духовной консистории вновь назначенному в Вологодский драгунский полк священнику Филиппову, требовала от полкового иерея:
-
— осуществлять священнослужение при полковой церкви «так, как святых апостолов и богоносных отцов предания и правила повелевают»;
-
— исправлять церковные таинства «благопорядочно и со всякою трезвостию и тщанием в страхе Божием честно и незазорно»;
-
— наставлять и «учити вся люди благоговению и чистоте и всякому благотворению»;
-
— следить, чтобы все православные служащие полка независимо от званий во все уставленные посты, особенно «во святую четыредесятницу», постились, исповедовались и, «по достоинству» святых тайн причащались;
-
— исповедовать и причащать нуждающихся, посещать и утешать больных, следить, чтобы никто без «напутствования смертного часа не достиг»;
-
— наблюдать за порядком в церкви во время богослужения, чтобы «никто никакого бесчинства, ни же смеха, ни же ругания не производил»;
-
— в других приходах к прихожанам «ни с какими потребами», кроме особо оговоренных случаев, «не вступать», чтобы местным священникам «в сочинении требуемых от них ведомостей помешательства не было»;
-
— во время пребывания полка в другой епархии без разрешения местного архиерея полковой церкви не расставлять и быть в его послушании наравне с епархиальным духовенством;
-
— «подлежащие тайности» государственные дела в «партикулярных» письмах не обсуждать;
-
— в бытность при полку демонстрировать «всякого благочиния и духовного жи-тейства образ», жизнь свою препровождать «трезвенно, честно и беспорочно», должность исполнять «со тщанием и неленностно и не упиваться и не кощунствовать и никаких правилам и указам и регламентам противных поступков не чинить и от полку своевольно не отлучаться» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1476. Л. 23–26).
Во всех вопросах служебной деятельности инструкция предписывала поступать «по святым правилам и Ея Императорского Величества указам и регламентам». В случае нарушения ее положений священнику грозило наказание — от «тяжелого» штрафа до извержения из «чина священнического» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1476. Л. 23–26).
Требования морали к личности полкового священника были закреплены также и в Артикуле 14-м. В нем говорилось, что священники в гарнизонах и полках «должны прилежать к непорочной, трезвой и умеренной жизни». Если же кто-то окажется «в своей науке, животе и поступках нечестив и беззаконен» и другим станет служить дурным примером, то за это будет «к духовному суду отослан» и наказан вплоть до лишения духовного сана. Артикул 15-й также предупреждал о серьезных последствиях нахождения священника во время богослужения в пьяном виде (Артикул, 1715, 755).
Однако, как показывают документы архива, эти требования в реальной жизни нередко священниками нарушались. Находясь на большом расстоянии от духовных властей, некоторые из них «впадали в искушение» и позволяли себе поступки далекие от «всякого благочиния» и «духовного жития образа».
В 1756 г. в пьянстве, сквернословии и даже в блудодеянии был обвинен священник Олонецкого драгунского полка Петр Васильев. Это событие получило широкий резонанс, в известность был поставлен даже сибирский губернатор В. А. Мятлев. После проведенного расследования вместе с его материалами священник Васильев был отправлен в Нижегородскую епархию, властями которой он был назначен когда-то в полк, к нижегородскому архиерею для окончательного по делу решения и духовного суда. Сообщение об инциденте, как того требовали правила, было послано в Св. Синод (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1986. Л. 26).
Священник Вологодского драгунского полка Алексей Филиппов Ямышевским десятоначальником Тимофеем Седачевым в январе 1760 г. был обвинен в том, что, находясь в Железинской крепости, «полковых служителей без венечных памятей венчает, а пошлинные и лазаретные деньги за собою утаивает, и живет невоздержанно пьянствует и чинит непорядки». В результате священник был отрешен от службы в полку, началось следствие, по завершении которого он был отправлен в Тобольск к митрополиту.
В нарушение пункта 5-го указа от 23 января 1733 г., запрещавшего «главным и всякого звания командирам» полков вступаться за допустивших проступки священников и защищать их, командир Вологодского полка полковник Дивелленев все же обратился к митрополиту, заявив, что свящ. Филиппов «во всю свою бытность при полку Вологодском находился состояния доброго и во всем вел себя благочинно, в чем могут засвидетельствовать всего полку господа штап и обер офицеры», что Ямышевским десятоначальником он «обнесен безвинно по одним злым ненавистям», и просил владыку «милостию его не оставить». Последовало ли священнику наказание, за отсутствием таких свидетельств, выяснить не удалось. Известно, лишь, что в полк он больше не возвратился — по причине вдовства был пострижен в монашество и определен к братии Тобольского Знаменского монастыря (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 2960. Л. 2 об.).
В научной литературе можно встретить тезис о бесправном положении российского военного духовенства в XVIII в., сформулированный на основе лишь одного примера самоуправства командира полка в отношении иерея [Мельникас, 1997, 137]. Исследование массива архивных документов о сибирском военном духовенстве XVIII в. не выявило ни одного подобного случая. Такие факты, вероятно, могли иметь место, но воспринимать их следует не как общую тенденцию в отношениях военного духовенства и командования полков (в обществе, в котором реализация прав человека осуществлялась сквозь призму интересов абсолютистского государства), а скорее как исключение. Командиры полков могли докладывать епархиальным властям о нарушениях, допускаемых священниками в служении или образе жизни, и даже заключать «под караул» провинившихся, но права расследовать эти проступки, тем более права судить и наказывать священника у них не было. Расследование его виновности осуществляли только духовные инстанции, поскольку находился он под властью суда духовного, а не военного или светского. В целом, отношение в полках к священникам основывалось на положениях Артикула 13-го, предписывавшего офицерам и рядовым «священников любить и почитать». Нарушителей, позволивших себе священнику «как словом, так и делом досаду чинить, и презирать, и ругаться», ожидало очень жестокое наказание (Артикул, 1715, 754). Девятый пункт инструкции давал священнику возможность защищать себя. Он гласил: «Ежели кто дерзнет тебя чем бесчестить или ругать, о том должен ты донести командующим, а буде от них сатисфакции не учинено будет, писать по команде в духовные правления той епархии, где находиться будешь со обстоятельством» (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 1. Д. 1476. Л. 25).
В кон. 60-х — нач. 70-х гг. XVIII в. продолжилось почти непрекращающееся в царствование Екатерины II реформирование российской армии. В 1771 г. все находящиеся в Сибири полевые полки были расформированы. Их личный состав частью вошел во вновь создаваемые на их основе легкие полевые команды — когорты, а частью — в формируемые гарнизонные батальоны [Шатилов, 2016а, 107]. Духовенство расформированных полков духовными властями было распределено по приходам, большей частью к старым крепостным церквям Верхне-Иртышской линии и к новым храмам крепостей Тоболо-Ишимской линии, процесс строительства которых начался с середины 60-х гг. XVIII в. Также в крепостные храмы было переданы походные полковые церкви.
В начале 1775 г., по причине своей военной неэффективности, легкие полевые команды были ликвидированы. В Сибири из них создали полевые егерские и мушкетерские батальоны и один 10-эскадронный драгунский полк, в 1777 г. названный Сибирским (ПСЗРИ. Собр. I. Т. ХХ. № 14562). По требованию военного командования Тобольская духовная консистория направила во вновь образованный полк священника — иерея Феодора Знаменского, и передала хранившуюся в крепости Святого Петра на Тоболо-Ишимской линии Покровскую походную церковь расформированного ранее Азовского драгунского полка (ТФ ГАТО. Ф. И-156. Оп. 3. Д. 1205. Л. 5–6). Почти до кон. 80-х гг. XVIII в. иерей Сибирского драгунского полка оставался единственным полковым священником в Сибири.
Таким образом, процесс формирования института военного духовенства в Западной Сибири начался лишь в середине 40-х гг. XVIII в. Практика его становления и развития в регионе в период 40–60-х гг. указанного столетия имела множество особенностей, зависящих от сибирских условий несения военной службы: большой протяженности границ, обширности и малонаселенности территорий, незначительного числа церквей и отсутствия необходимого количества кадров духовенства. Хотя в целом, следует отметить полное соответствие его содержания политике, проводимой государством в этот период в вопросе упрочения духовных основ военнослужащих регулярной армии.