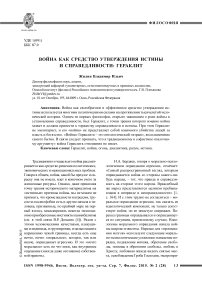Война как средство утверждения истины и справедливости: Гераклит
Автор: Жилин Владимир Ильич
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (28), 2015 года.
Бесплатный доступ
Война как своеобразное и эффективное средство утверждения истины используется многими политическими силами на протяжении тысячелетий человеческой истории. Одним из первых философов, открыто заявившем о роли войны в установлении справедливости, был Гераклит, с точки зрения которого именно война может и должна привести к торжеству справедливости и истины. При этом Гераклит не милитарист, и его «война» не представляет собой взаимного убийства людей за власть и богатство. «Война» Гераклита - это онтологический «взрыв», воспламенение самого бытия. В связи следует признать, что к традиционному в софистике «палочному аргументу» война Гераклита отношения не имеет.
Гераклит, война, огонь, диалектика, разум, истина
Короткий адрес: https://sciup.org/14974709
IDR: 14974709 | УДК: 1(091)
Текст научной статьи Война как средство утверждения истины и справедливости: Гераклит
Традиционно и чаще всего война рассматривается как средство решения политических, экономических и межнациональных проблем. Говоря в общем, война, какой бы предлог и окраску она не имела, идет в конечном счете за жизненные ресурсы. Однако, даже принимая точку зрения исторического материализма на «истинные» причины войны, мы не можем не признать, что кроме жадности и агрессии, трусости и ксенофобии есть и другие начала в человеке, призванные, по крайней мере на первый взгляд, замаскировать некогда эволюционно приобретенные инстинкты каннибализма (см. в этой связи В.Р. Дольник [4]). Рядом с этими человеческими качествами, влекущими и индивида, и группировки, и целые нации к нарушению чужой границы, всегда есть еще нечто, нечто «моральное», которое, так или иначе, оправдывает агрессию. И это «нечто моральное» есть не что иное, как внутреннее ощущение (иногда даже осознание) собственной правоты.
Н.А. Бердяев, говоря о морально-психологическом оправдании агрессии, отмечает: «Самый распространенный взгляд, которым оправдывается война со стороны какого-нибудь народа, – тот, что правда и справедливость на стороне этого народа. Враждебный же народ представляется целиком пребывающим в неправде и несправедливости» [1, с. 164]. И с этим трудно не согласиться – моральное оправдание агрессии, так сказать ее идеологический компонент, не только сопутствует войне, он ее зачастую опережает. Переход границы оправдывался и оправдывается по ситуации, приемлемому случаю. Идеологемы морального оправдания начала войны широко известны. Нередко для «промывания мозгов» используют следующие морально-психологические установки: наведение порядка, подавление мятежа, обретение свободы, помощь в обретении свободы, любовь к Христу, любовная жажда видеть святые места, освобождение Гроба Господня, экспропри- ация экспроприаторов, экспорт революции, экспорт демократии, обретение национальной независимости, помощь братскому народу, освобождение угнетенных народов, интернациональная помощь дружественному народу, расширение жизненного пространства нации, восстановление статус-кво нации, исправление ошибок природы, святая месть, охрана своих рубежей на дальних подступах, лучшая защита – это нападение.
При этом требование, внутреннее требование морального оправдания агрессии находится глубоко в нас, в нашем исходно животном материале. Так, например, П.А. Кропоткин в поиске естественнонаучных основ для построения этики обращается к «общительности» наших дальних предков и «общественному инстинкту» Ч. Дарвина, приводит дополнительно убедительные примеры, демонстрирующие нравственное начало в мире животных, и высказывает свою точку зрения на истоки компромисса между законами враждебности и законами дружелюбия в человеческом сообществе: «Мысль о “справедливости”, понимаемая вначале как возмездие, связана, таким образом, с наблюдениями над животными. Но весьма вероятно, что сама мысль о вознаграждении и возмездии за “справедливое” и “несправедливое” отношение возникла у первобытного человека из мысли, что животные мстят человеку, если он не должным образом отнесся к ним. Эта мысль так глубоко внедрена в умах дикарей по всему земному шару, что ее следует рассматривать как одно из основных понятий человечества» [6, с. 65]. То есть, если ты не Бог (или, по крайней мере, не сверхчеловек), ты обязан быть «справедливым» и, соответственно, соблюдать законы, «законы природы», повинуясь причинно-следственным связям, иначе тебя ждет наказание, вплоть до смертельного. И в этой связи вполне будет уместным почитать истину дороже друга...
Однако, увы, мир (прежде всего мир человеческих иллюзий) живет не по законам формальной логики. Софистика и диалектика умышленно, а иногда и непроизвольно, манипулируя сознанием, владеют большинством, склонным доверять видимости. И в этом случае уже выходит на поверхность обыденного сознания иное представление о соотношении истины и дружбы – ворон ворону глаз не выклюет (с учетом того, что рыбак рыбака видит издалека), и, в соответствии с таким изменением в отношениях между дружбой и истиной, трансформируется также представление о соотношении истины и войны – победителей не судят. Победитель всегда выступает в роли судьи, а побежденный – обвиняемого. Характерной для такого мировоззрения является мысль, высказанная болгарским марксистом В. Боевым: «В огне Октябрьской революции и других социалистических революций на практике доказана истинность марксистско-ленинского учения» [2, с. 94]. Победа, в рамках таких представлений, автоматически делает победителя правым, а война, победоносная война, становится чуть ли не единственным средством утверждения истины. Аргумент «к палке» в таком мышлении и мировоззрении обретает «законную» легитимность.
Мысль о войне, как средстве установления справедливости, является увлекательной и для романтиков, и для прагматиков, ведь победитель не просто сильнее или хитрее, победитель еще умнее и нравственнее. Более того, победитель владеет истиной. А если так, то и моральные качества, и ценности победителя абсолютны. Победа автоматически влечет за собой утверждение «моей» истины в качестве единственной. И уже не важно, что победа досталась обманом и вероломством, численным превосходством средств ведения войны, победа воспринимается и трактуется победителем и его «союзниками» как торжество справедливости. Э. Фромм, вскрывая такого рода морально-психологическую «привлекательность» войны, отмечает: «На войне человек снова становится человеком, у него есть шанс отличиться, и его социальный статус гражданина не предоставляет ему привилегий. Короче говоря, война – это некий вариант косвенного протеста против несправедливости, неравенства и скуки, которыми пронизана общественная жизнь в мирные дни» [9, с. 278]. А. Камю приводит другой, уже циничный, вариант этой же мысли о соотношении истины и войны: «Однако, перед тем как развязать войну, фюрер заявил своим генералам, что у победителя не будут спрашивать, лгал ли он или говорил правду» [5, с. 258]. Таковы «народные расценки» на истину.
Одним из первых философов, оформивших гносеологическую роль войны, был Гераклит. Будучи недовольным установившимся народовластием в Эфесе, он полагал, что только распря расставит все по своим местам, установит надлежащий порядок. С его точки зрения именно война может и должна привести к торжеству справедливости и истины: «Раздор <ведь> – отец всем общий, и общий всем царь. И одних богами объявляет он, других – людьми, одних рабами сотворяет он, а других – свободными» [3, с. 187]. Всеобщий Раздор и Правда, с его точки зрения, должны «крепко» любить друг друга, ведь, «все порождаемо в соответствии с Рознью». Свидетелей лжи и сплетателей, разумеется, Правда настигнет. А осудит всех грядущий огонь: «Все огонь, приидя, рассудит и захватит» [3, с. 203]. Гераклит верит в возмездие за ложь и несправедливость, верит он и в торжество истины, которое оказывается неизбежным посредством войны.
И даже согласившись с М.К. Мамардашвили в том, что Гераклит не милитарист и, говоря о войне, он только «хочет сказать, что лишь внутри полемического состояния, внутри состояния всеобщего полемоса в схватке с бытием, или друг с другом, или в схватке с собой стоят люди» [7, с. 95], следует все же признать, что аргумент «к палке» имел в гносеологии основоположника диалектики фундаментальное значение. Истина в гносеологии Гераклита должна восторжествовать без обращения к агоре. Ведь, будучи ярым противником народовластия, Гераклит, оставаясь верным самому себе, не обращается за поддержкой «к аудитории» в поиске и утверждении истины: «Один, по мне, – тысячи, коли он наилучший, бесчисленные же сии – никто. Ибо одно перед всем предпочтут наилучшие: вечнотечную славу. А множество смертных нажираются словно скоты, брюхом и срамом, постыднейшим в нас, измеривая благополучие» [3, с. 191]. Но этот «один», будучи наилучшим, для торжества истины должен одержать победу над бесчисленными «никто».
Какая может быть полемика с этими «бесчисленными никто»? Какое отношение они имеют к обнаружению и утверждению истины? Ведь, согласно Гераклиту, «собь людская знаний не имеет», а взрослым эфесянам вообще следует всем перевешаться за допущенную ими тупость и несправедливость. Истина, по наблюдениям Гераклита, скрывается, ее следует настойчиво и долготерпеливо искать. «Природа любит скрываться», – замечает Гераклит. «Ищущий правды не должен отчаиваться. Коли не чает он нечаемого, не отыщет ненаходимого и малодоступного» [3, с. 193]. И хотя глаза и уши свидетели истины, но все же лишь свидетели. Более того, глаза и уши могут даже лжесвидетельствовать, и происходит это в том случае, если они «увлажнены», и, тем более, «дурные свидетели для людей – глаза и уши тех, у кого варварские души» [3, с. 194].
Однако складывается впечатление, что война, о которой Гераклит говорит как о средстве избавления ото лжи, это не та война, которая мечом насаждает выгодный кому-либо порядок, углубляя онтологическую несправедливость и тем самым создавая еще большее «напряжение» бытия. Война Гераклита – это огонь, который приходит как возмездие за несправедливость и ложь, разрушает в своем пламени хитросплетения «свидетелей лжи и сплетате-лей» и в результате устанавливает божественный, законный порядок. «Все огонь, приидя, рассудит и захватит» [3, с. 203] – предупреждает Гераклит своих глупых и несправедливых соотечественников, ведь, «этот огонь разумен» [3, с. 202]. Шанса спрятаться от правосудия огня нет ни у кого, и Гераклит предупреждает об этом: «От никогда не заходящего <огня> разве кто-либо спрячется? Ибо всякая тварь бичом его на пастбище гонима» [3, с. 202].
К.Р. Поппер в своем противостоянии историцизму несколько «притягивает» Гераклита к Ленину, Марксу и Гегелю, полагая, что основоположник диалектики, обращаясь к «огню» за помощью, лишь пугает зарождающиеся демократические силы. Комментируя «закон» войны (=огня), К.Р. Поппер отмечает: «Это неумолимый и безжалостный закон, и этим он напоминает современное понятие закона природы, а также понятие исторических и эволюционных законов, выдвинутое современными историцистами. Однако он отличается от этих понятий тем, что устанавливается разумом, а приводится в действие угрозой наказания, – аналогично тому, как государство навязывает юридические законы» [8, с. 45]. С точки зрения К.Р. Поппера, Гераклит неспособен отличить правовые законы и нормы от естественных закономерностей, дескать, у него оба рода законов считаются магическими, что является характерной чертой родовой системы табу. Полагаю, что Гераклит все же не пугал своих соплеменников войной, он их предупреждал – наказание за ложь и несправедливость неизбежно. И не человеческий суд расставит все по своим местам – это сделает огонь. Время придет, и огонь все поглотит и установит порядок: «И воздух нагревается до сполоха, сполох же в море охлаждается и соразмеряется согласно тому же реченью, какой был от огня прежде, чем сполох возник. И море снова вос-паряется, превращаясь в огонь» [3, с. 203].
Гераклит считал, что ему открыт для восприятия иной мир, мир, который недоступен «наглым» и «невежественным» эфесянам. «Собь людская знаний не имеет, а божественная – да» [3, с. 192]. Говоря же о себе, о своем познании, Гераклит отмечает, что «я самостоятельно» искал правду, однако, «не по-человечески, а с помощью Бога». А какую истину могут усмотреть в «намеках» дельфийского оракула те, у кого «варварские души»? И хотя, с точки зрения Гераклита, всем людям присуща способность познавать и здраво мыслить, но не все этой способностью пользуются: «Здраво мыслить – величайшая доблесть и мудрость высказывать истину и действовать согласно природе <ей> внемля. С умом (ксюн ноой) говорящие укрепиться должны на всеобщем (ксюной) как город на законе, а город (Эфес) – еще крепче. Ибо законы людские все ведь питаются от Единого божьего» [3, с. 196]. Однако, несмотря на то что у людей есть возможность познавать истину, не они ей судьи: «Судья истины – Речение (=разум), причем не какой угодно, а всеобщее и божественное...» [3, с. 194]. И мы сами становимся мыслящими, лишь вобрав в себя это божественное Речение, соединившись с Объемлющим. Разум, Речение, Объемлющее неподвластны человеческим желаниям, неподкупны и неумолимы. Большинство может проголосовать за что угодно, и даже утвердить свое решение в виде государственного (правового) закона, но если этот результат противоречит всеобщему и боже- ственному Разуму, последствием будет война, огонь. Об этом Гераклит предупреждает, а не «берет на испуг», но «постмодернистам» античности, как, впрочем, и всем последующим поколениям постмодернистов, нет до этого дела. Нет ни Бога, ни предустановленных законов! Я сам себе и Бог, и Закон! Я-победи-тель не только «делает» историю, Я-победи-тель еще и пишет историю, причем выгодную для себя историю, в которой агрессия Я всегда оправдана, всегда моральна, а война ведется только справедливая. Но это уже не та война, о которой предупреждал Гераклит.
«Война» Гераклита – это не взаимное убийство людей (живущих так, «словно у них личное есть разумение») за власть и богатство. Хотя и взаимное убийство людей при перераспределении жизненных ресурсов вполне может являться орудием возмездия за «неразумность». Однако такая («человеческая») война, хотя и может рассматриваться как «наказание», но, тем не менее, правосудия она, как правило, не вершит. Гераклит говорит об иной войне, «не человеческой». «Война» Гераклита – это онтологический «взрыв», воспламенение самого бытия (ведь «огонь когда-то становится всем», а «все когда-то становится огнем» [3, с. 203]). И в этой связи следует признать, что к традиционному в софистике «палочному аргументу» война Гераклита отношения не имеет.
Однако может сложиться впечатление, что «Речение» в «мире» Гераклита не сразу реагирует огнем (=войной) на человеческую несправедливость, что оно как бы выжидает, дает бестолковым возможность увязнуть в своей тупости и жадности. Но это лишь впечатление. «Речение» не выжидает, и ему вообще нет дела до человеческих недоразумений. В мирострое Гераклита у огня свои обороты, свои циклы. «Мирострой сей, – говорит Гераклит, – тот же самый для всех и всего, ни из богов никто, ни из людей, не сотворил, но присно он был, и есть он, и будет, огнь присно-живый мерно вспыхивающий и мерно потухающий» [3, с. 202].
Похоже, что «мирострой» Гераклита антиантропоморфен, и, соответственно, не «привязан» к человеческим желаниям и поступкам, ведь «огнь присноживый», не «оглядываясь» ни на людей, ни на богов, сам по себе мерно вспыхивает и мерно затухает. Будучи разумным, неумолимым и беспощадным огонь придет неизбежно, всех рассудит и захватит.
В этой связи вполне можно прийти к заключению, что нет уже человеку в таком мире особой нужды быть умным и нравственным, ведь это не спасет его от огня, который с присущей лишь ему периодичностью приходит, а затем угасает, оставляя мир на растерзание тупым и жадным. И, похоже, что именно по поводу этой «несправедливости» возмущается К.Р. Поппер в своей критике историцизма – философско-методологической доктрины, не принимающей во внимание ответственность и активность людей за состояние своего мира: «Пророки, объявляющие, что скоро произойдут определенные события – например, победа тоталитаризма (или, быть может, «менеджеризма»), независимо от их желания могут стать инструментом в руках тех, кто эти события готовит. Утверждение, что демократия не должна сохраняться вечно, столь же мало отражает суть дела, как и утверждение о том, что человеческий разум не должен существовать вечно» [8, с. 33]. Такого рода утверждения, с точки зрения К.Р. Поппера, не только могут лишить мужества борцов с тоталитаризмом, способствуя тем самым бунту против цивилизации, но и освобождают человека от груза ответственности. Разворачивая свою точку зрения, К.Р. Поппер отмечает: «Если вы убеждены, что некоторые события обязательно произойдут, что бы вы ни предпринимали против этого, то вы можете со спокойной совестью отказаться от борьбы с этими событиями. В частности, вы можете отказаться от попыток контролировать то, что большинство людей считает социальным злом, – как, скажем, войну или, упомянем не столь масштабный, но тем не менее важный пример, тиранию мелкого чиновника» [8, с. 34]. И у Гераклита вроде бы есть подтверждение этим оценочным суждениям К.Р. Поппера относительно бессмысленности человеческих поступков, ведь, с его точки зрения, «превращение миростроя соблюдает определенный порядок и совершается в силу необходимости Жребия за определенное время в соответствии с некоторыми циклами в течение всей вечности» [3, с. 204].
И пусть «Речение» равнодушно, как и полагается логосу. Пусть, ниспослав на нас огонь войны, оно не проявляет заботу о нас, а лишь «фильтрует» накопившийся человеческий материал и расставляет все по своим местам. Но законосообразный огонь войны Гераклита, кроме неумолимости и беспощадности, еще и умный, и после того как он «прокатится» по миру, кто-то станет богом, кто-то свободным человеком, а кому-то суждено стать рабом – все будут расставлены по своим местам, а, значит, все же есть смысл сопротивляться безнравственности и противостоять соблазнам лености, праздности и лжи. Ведь нет в нашем мире раз и навсегда завоеванного, и на вчерашней добродетели, власти или даже богатстве нельзя улечься спать. Умный, неумолимый и беспощадный огонь неизбежен. Однако в этой войне мы можем выстоять, и от нас зависит стать в результате богом, свободным человеком или рабом. Истина восторжествует. Так утверждает Гераклит. Верит в это. Но это будет уже не та истина, которая конструируется из утверждений когерентно «цепляющихся» друг за друга для извлечения выгоды, и даже не та, которая соответствует мнению народа, его наиболее громкого большинства. После войны не сгорит и восторжествует лишь то из созданного человеком, что соответствует Речению. Истина в огне не горит – таков вердикт Гераклита.
Список литературы Война как средство утверждения истины и справедливости: Гераклит
- Бердяев, Н. А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности/Н. А. Бердяев. -М.: Мысль, 1990. -208 с.
- Боев, В. Детерминизм и революция: К критике современного философского ревизионизма/В. Боев. -М.: Мысль, 1983. -176 с.
- Гераклит Эфесский. Все наследие. -М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012. -350 с.
- Дольник, В. Р. Непослушное дитя биосферы/В. Р. Дольник. -СПб.: ЧеРо-на-Неве, Петрог-лиф, 2004. -352 с.
- Камю, А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство/А. Камю. -М.: Политиздат, 1990. -415 с.
- Кропоткин, П. А. Этика: избр. тр./П. А. Кропоткин. -М.: Политиздат, 1991. -496 с.
- Мамардашвили, М. К. Лекции по античной философии/М. К. Мамардашвили. -СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. -320 с.
- Поппер, К. Р. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона/К. Р. Поппер. -М.: Феникс, 1992. -448 с.
- Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности/Э. Фромм. -М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. -621 с.