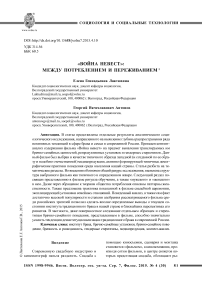«Война невест»: между потреблением и переживанием
Автор: Лактюхина Елена Геннадьевна, Антонов Георгий Вячеславович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Социология и социальные технологии
Статья в выпуске: 4 (30), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены отдельные результаты аналитического социологического исследования, направленного на выявление глубины распространения ряда негативных тенденций в сфере брака и семьи в современной России. Проведен контент-анализ содержания фильма «Война невест» на предмет выявления транслируемых им брачно-семейных ценностей, репродуктивных установок и гендерных стереотипов. Данный фильм был выбран в качестве типичного образца западной (и созданной по ее образу и подобию отечественной) медиапродукции, активно формирующей типичные демографические практики поведения среди населения нашей страны. Статья разбита на тематические разделы. Во введении обозначен общий ракурс исследования, выявлена структура выбранного фильма как типичного в определенном жанре. Следующий раздел посвящен представлению в фильме ритуала обручения, а также «мужского» и «женского» в нем. Далее через обращение к теориям общества потребления описаны паттерны женственности. Также предложена трактовка показанной в фильме свадебной церемонии, эксплицирующей установки семейных отношений. Поведенный анализ, а также сам факт достаточно высокой популярности и степени одобрения рассматриваемого фильма среди российских зрителей позволил сделать вполне определенные выводы о текущем состоянии института традиционного брака в нашей стране и ближайших перспективах его развития. В частности, даже поверхностное следование отдельным образцам и стереотипам брачно-семейного поведения, представленным в фильме, способно значительно усилить тенденции деинституционализации традиционного брака в современной России.
Институт брака, брачно-семейные установки, брачно-семейное поведение, брачность и разводимость, гендерные стереотипы, медиапродукция, контент-анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14974978
IDR: 14974978 | УДК: 314.56 | DOI: 10.15688/jvolsu7.2015.4.10
Текст научной статьи «Война невест»: между потреблением и переживанием
DOI:
Введение помощью киносъемки, сценария и монтажа становится «фильмом», а кинокомпании, про-
Современную свадебную индустрию и изводя сотни фильмов, в центре сюжетов ко- кинематограф нельзя разделить. Свадьба с торых предстоящая свадьба, обогащают ры- нок свадебных услуг новыми образами. Популярное жанровое кино транслирует образцы современной культуры, запечатлевает типичные социальные ситуации и предлагает варианты их интерпретации. «Одобряемые и узнаваемые модели социального поведения, форма социальных конфликтов, взгляд на историю, ожидания от будущего, набор культурных норм и правил и т. д., и т. п. – все это в значительной степени разделяется и понимается зрителем в том случае, если мы имеем дело с массовым кино, где инновация допустима лишь в очень ограниченном масштабе. Неслучайно однажды найденная сюжетная и жанровая формула тут же воспроизводится и тиражируется во множестве аналогов – это редкие попадания» [4, с. 11]. Постмодернистская методологическая установка к исследованию массового кино исходит из того, что содержание жанровых фильмов идеологично, фильм несет в себе некоторое идейное сообщение, чтобы его обнаружить и аргументировать, необходим детальный анализ структуры и содержания фильма [7, с. 119; 3, с. 144; 5]. Структура фильмов, условно обозначаемых нами как «фильмы о свадьбе» следующая:
-
– главная героиня (реже, герой) – представитель среднего класса, длительное время проживает со своим партнером;
-
– она получает предложение выйти замуж (или добивается его, приложив усилия);
-
– начинается предсвадебный период, в который происходят основные испытания героев;
– пройдя все испытания, герои становятся «другими», меняют свое отношение к жизни и партнеру, женятся или в процессе преодоления трудностей разочаровываются в партнере и встречают нового.
Фильм «Война невест» Г. Виника, вышедший в 2009 г., выбран нами для анализа, во-первых, потому, что является прекрасным образцом того, как кино создает и продвигает образцы для свадебной индустрии: сайты свадебных агентств полны предложений платьев «как у героини» этого фильма (фильм содержит рекламу платья модельера Веры Вонг), специалисты в области свадебных услуг регулярно получают заказ от невест сделать им низкую прическу и закрепить фату как у Энн Хэтэуэй в «Войне невест». Во-вто- рых, фильм, сохраняя структуру аналогичных по жанру фильмов, концентрируясь на свадьбе и ее подготовке, в центр сюжета помещают отношения двух женщин, что является новшеством и некоторым отступлением от жанровой формулы, тем более заслуживающим анализа.
В «Войне невест» две восьмилетние девочки становятся случайными свидетелями празднования свадьбы в отеле Plaza, у них появляется «новая мечта: однажды каждая из них встретит того человека, который будет ее поддерживать всегда и во всем, и тогда она тоже отпразднует свадьбу в июне в отеле Plaza». Девочки играют в свадьбу. Через двадцать лет уже взрослые Эмма и Лив (Оливия), главные героини, живут вместе со своими партнерами (Флетчер и Дэниэл), Эмма – школьный учитель, Лив – успешный юрист. Обе ждут предложения о замужестве. Получив его практически одновременно, девушки начинают подготовку к свадьбе, однако, по ошибке их свадьбы назначены агентством на один день. Ни одна из героинь не согласна переносить свое торжество, но каждая хочет, чтобы ее подруга присутствовала в качестве подружки невесты. Начинается конкуренция. В ходе подготовки Эмма понимает, что ее жених ей не подходит. В начале свадебных торжеств две подруги устраивают драку, после которой подруги мирятся. Эмма отказывает своему жениху и остается на свадьбе Лив. Фокальный персонаж в фильме – известный организатор свадеб Марион Сент-Клэр, от ее лица ведется повествование истории, озвучиваются правила организации свадьбы и другие «жизненные мудрости».
Предложение о замужестве: я согласен
Свадьба представляется длительным процессом, который начинается с обручения. Партнеры живут вместе, но договоренности о свадьбе нет, поэтому предложение необходимо. Оно исполняется в соответствии с определенной формулой: дарение кольца, вопрос мужчины «ты выйдешь за меня замуж?» и некоторая сопроводительная подготовленная речь. При этом предложение «руки и сердца» должно быть сделано «как-то», оно должно иметь сценарий, важен контекст, место, время. В фильме мы видим два предложения о замужестве. Флетчер предлагает Эмме стать его женой, дома за просмотром телепередачи, спрятав кольцо в печенье с предсказаниями. Он объясняет выбранный «сценарий» в духе традиционных ценностей: если мы через пятьдесят лет будем вот также сидеть дома, также ужинать и смотреть телевизор, для меня это будет счастьем. Дэниэл, очевидно, тоже разрабатывал сценарий, но не успел его осуществить. Лив, случайно обнаружив коробочку с кольцом, не дождалась предложения и, ворвавшись в офис к жениху, задала вопрос: не хотел бы он на ней жениться. Перформатив «ты выйдешь за меня?» может произноситься только мужчиной, женщина может только задать вопрос, который не будет предложением руки и сердца. Дэниэл, изменив собственный сценарий под неожиданный поворот событий, произносит речь, которая несмотря на уже прозвучавший вопрос невесты, заканчивается перформативным высказыванием, следовательно, предложение «делает» он, а Лив реагирует, как и подобает невесте, фразой «Правда? Это так неожиданно!». Эта сцена доказывает идею, что женщине самой делать предложение непозволительно, даже если обручение уже подготавливается. Похожую сцену можно наблюдать в фильме «Как выйти замуж за три дня»: героиня узнает, что ее парень, с которым они вместе уже четыре года, выходил из ювелирного магазина с покупкой, решив, что готовится обручение, она с подругой репетирует «удивление», а получив серьги вместо кольца, решает воспользоваться старой ирландской традицией, которая позволяет женщине сделать самой предложение 29 февраля и отправляется к жениху в Дублин. Она не планирует задать вопрос: «не желает ли он жениться на ней», планируется предложение (покупка кольца, наряд, выбор места). Исключение подчеркивает твердость правила: женщина ни в коем случае не должна делать предложение мужчине, разве только один раз в четыре года и только в одном месте. Традиция обручения, разыгрываемая «по правилам», подчеркивает не только декоративность процедуры, она имеет еще одно важное отличие: это единственное, что может исполняться только мужчиной, ничто другое не имеет подобного табу: женщина может первая поцеловать мужчину или предложить жить вместе, но только не предложение о браке. Подобный консерватизм иллюстрирует тиражируемую «свадебными фильмами» установку: женщина всегда хочет замуж, если пара не заключает брак, значит, этого не хочет мужчина, следовательно, вопросом «согласна ли ты выйти за меня замуж?» мужчина только сообщает о своей готовности вступить в брак. На этом допущении строится дальнейшая сюжетная линия.
Дальше инициатива полностью переходит в руки невесты: свадьба – это женское дело. В процессе ее организации героини демонстрируют типичные для общества потребления установки: во-первых, свадьба должна быть «особенная», одновременно, она должна быть «какая-то», то есть выполненная в определенном стиле, соответствующая образцу, наконец, свадьбе угрожает опасность, за нее нужно бороться. «Особенная» свадьба состоит из модных вещей. В стремлении отличаться невесты следуют какому-либо образцу, выбирая из предложенного. «Дифференцироваться – значит сближаться с моделью, определять себя в зависимости от абстрактной модели, от модного скомбинированного образа и в силу этого отказываться от всякого реального различия, от всякой единичности, которая может развиться только в конкретном конфликтном отношении к другим и к миру» [1, с. 83]. И если свадьба – главное событие в жизни женщины, тогда все должно быть идеально: идеальным представляется элитарное, брендовое, «какое-то», то есть подлежащее описанию, узнаваемое. В ансамбле вещей нет мелочей и второстепенных деталей, благодаря чему свадьба, перегруженная знаками, становится царством китча. Насыщенность деталями из разных областей подчеркивает выбор платья. Эмма, между брендовым и маминым, выбирает «мамино платье». «Мамино свадебное платье» присутствует во многих фильмах и обставляется как приверженность к семейным ценностям. Однако слова матери, увидевшей на дочери свое свадебное платье, лишь подтверждают истину, которая высказывалась на протяжении всей подготовки к свадьбе – «это твой день», свадьба устраивается не для демонстрации семейных ценностей, а для того, чтобы невеста почувствовала себя в центре внимания. Именно поэтому совместное празднование двух свадеб недопустимо, так как невеста может быть только одна и у нее не должно быть конкурентов. Каждая из невест говорит о «своей» свадьбе, «своем» дне, исключая из него даже будущего мужа.
Женское тело: красота и эротизм
Тело невесты также является объектом потребления и участником предстоящей свадьбы. Нарциссическая логика восприятия собственного тела (тем более, если это тело женское) требует особой заботы о нем. Именно тело и является основным полем войны невест: волосы, кожа, фигура. Получая изъян, тело становится неподходящим для идеальной свадьбы и выпадает из ансамбля идеальных вещей («не платье Веры Вонг подгоняют под себя, а себя под платье Веры»). Конкуренция как основная движущая сила пронизывает все: ее апогеем является сцена в ночном клубе. Одна из героинь, Лив, отмечает свой девичник, стриптизер вызывает ее на подиум. В зале появляется Эмма. Диджей просит «невесту номер два» выйти («покажи, как ты двигаешься»), объявляет танцевальный конкурс между невестами, который становится конкурсом на сексуальность – «пусть самой сексуальной невесте достанется приз». Танец, способный отразить сексуальность – это стриптиз, мы видим два его исполнения. Лив – в костюме 1920-х гг. (платье прямого свободного кроя, нитка жемчуга на шее, парик каре, диадема), отсылающем к эпохе феминистской борьбы за равные права, освобождения женской сексуальности и первых кабаре. Ее движения пластичны, танец статичен, она прикована наручником к своей сопернице, возле которой танцует как у шеста. Черный костюм Эммы – короткие шорты, рубашка, жилет, высокие сапоги, распущенные волосы – похож на костюм стриптизеров этого клуба, они в образе полицейских. Динамичный танец Эммы, освободившейся от наручника, с резкими ритмичными движениями и прыжком на канат, символизирующим шест, вызвал в зале бурные овации. Героини не раздеваются, но их танцы содержат эстетику стриптиза. В идеологии потребления стриптиз не коммерческий танец, это способ женщины получить удовольствие от самой себя, такое удовольствие получает Эмма, демонстрируя самодостаточность и независимость. Символ победы Эммы – появившаяся у нее на голове полицейская фуражка стриптизера, в то время как Лив теряет свою диадему с появлением конкурентки на сцене. С позиций феминизма должна победить Лив, занимающая мужскую должность и успешная в карьере, плохо исполняющая роль сексуального объекта, но в обществе потребления побеждает Эмма – модель «функциональной женственности» [1, с. 90] с эротизмом и экспрессивностью, ее свобода в том, чтобы нравиться себе самой, быть объектом для себя.
Следует отметить, что в фильме есть и второй «танец Эммы на канате». Его запечатлевает любительская видеосъемка на каникулах. Это видео охраняется клятвой Лив никому и никогда его не показывать и считается самой Эммой страшным позором. Фрагмент видео становится достоянием общественности в начале свадьбы, что и приводит к драке невест. Один танец становится предметом гордости для героини, другой – предметом стыда, потому что танец в клубе был выполнен «профессионально», по правилам жанра, в то время как танец в состоянии алкогольного опьянения на каникулах выглядит любительской импровизацией. Знак равенства между красотой и эротизмом делает взаимоисключающими беременность и функциональную женственность. Невеста должна быть сексуальной, значит, она не должна быть беременной. Танец Эммы в ночном клубе является ответом на слухи о ее беременности, пущенные соперницей: «я ни капли не беременна». В настоящее время стриптиз, имевший вполне однозначную трактовку, расщепляется на pole dance, pole fitness, strip dance и т. д., превращаясь в гимнастику, аэробику, спорт и танцевальное искусство. Но он не теряет изначально присущей эротической эстетики. Происходит доместикация стриптиза, из атрибута проституции он становится элементом новой женственности. Владеть элементами этого танца, значит, быть уверенной в себе. Уметь любить себя, нравиться себе самой предписано моделью женственности в обществе потребления. Свадьба вдогонку наступившей беременности обесценивает сам праздник, прелесть которого в его длительной тщательной подготовке. На место ребенка как объекта заботы приходит собственное тело женщины, требующее нарциссической заботы о себе [2; 8].
Общество потребления эмоций
Общество потребления имеет императив развлекаться, стремиться к счастью, копить и демонстрировать знаки счастья, человеку общества потребления предписано чувствовать себя по-настоящему живым и счастливым, потребляя сверх необходимого, обладание знаками престижа помогает обрести счастье. Знаком престижа и знаком счастья в фильме является празднование свадьбы в отеле Plaza. «Правильная» свадьба готовится несколько месяцев и ощущение праздника сопровождает ее на каждом этапе: выбор платья в магазине проходит с бокалом шампанского, потому, что праздник уже идет и потому, что процесс выбора платья (как и других атрибутов свадьбы) предписывает быть счастливым. Потребляются не только вещи или услуги, как статусная принадлежность. Вместе с товарами продаются впечатления, погружение в которые происходит во время выбора этих товаров. «Современный субъект действует больше посредством выбора, чем воздействия» [6, с. 10].
В фильме мы видим не только гонку потребления, но и погоню за переживаниями. Происходит смена установок потребления с внешних на внутренние. С точки зрения теории «общества переживаний», в современном обществе происходит смена не только потребительских установок, но изменение типа рациональности. Если человек общества потребления ориентирован на выбор того, что подчеркивает его социальный статус (при этом не возникает проблем с определением того, что именно нужно выбирать), в обществе переживаний критерий выбора – собственные чувства: избираемые вещи, события, стиль жизни должны иметь в первую очередь эмоциональную ценность. При внутренней ориентации потребитель сталкивается с двумя проблемами: во-первых, он не знает, чего он хо- чет на самом деле, во-вторых, всегда присутствует риск разочарования [9; 10]. Задачу выбора несколько облегчает пронизывающая повседневность стилизация. Выбор собственного стиля (в том числе стиля жизни) помогает в определении собственных чувств. Каждая из героинь выбирает стиль свадьбы: «романтический с уклоном в элегантность» или «традиционный, но с модными элементами». Но стиль есть и у пары: «первый танец – отражение стиля пары». Стиль становится комплексом «образцов переживаний», образом жизни, отражением жизненной философии личности. Стилизация облегчает задачу конструирования идентичности в ситуации изобилия образцов. Ей подвергается организация свадьбы, сопровождающие ее объекты и отношения между будущими супругами.
В обществе переживаний человек сталкивается и с проблемой вербализации своих чувств. Организуя свадьбу «по всем правилам», героини не чувствуют то, что предписано чувствовать: «я мечтала об этом, но на деле оказалось, это не так уж приятно, я не знаю причины». Находясь в мире внешне ориентированных действий, героини не испытывают проблем, они знают, что нужно выбирать – лучшее, идеальное, брендовое, подчеркивающее индивидуальность. В начале фильма подготовку свадьбы, как и отношения между женихом и невестой сопровождает преимущественно рекламный дискурс. Рассказ героини о помолвке подменен описанием подаренного кольца как товара, описание платья больше похоже на текст рекламных каталогов. Общество потребления снабжает человека готовыми схемами интерпретации событий. Однако позже начинает преобладать эмоциональное описание вещей и событий. В мире внутренне ориентированных действий критерий «правильных» поступков только один – собственные чувства. Здесь важное значение имеют две сцены фильма: Эмма встречает брата Лив, Нейта, который ее спрашивает: «как ты, Эмма, в плане чувств?» и похожий вопрос ей задает отец перед входом в зал венчания в день свадьбы. Эти две сцены (а также реакция матери на свадебное платье) определяют дальнейшее развитие событий, запуская механизм: «поступай так, как чувствуешь». Эмма разрывает отношения с женихом и остается на празднике подруги.
Невыносимая легкость развода или свадьба двух женщин
Голосом «главного на Манхеттене организатора свадеб», фокального персонажа Марион Сент-Клэр в середине фильма утверждается, что предсвадебный период, а точнее месяц, это испытание для пары: «проверка того, как они действуют сообща, решают проблемы, общаются… У некоторых пар выявляются серьезные противоречия в их отношениях, у других пар, счастливых, гармония их взаимоотношений становится еще более явной». Так предсвадебные испытания нивелируют опыт длительного знакомства пары (десять лет) и тем более, годы их совместной жизни. Совместное проживание перестает быть «пробным браком». Только предсвадебные испытания способны изменить героев. Отказ Эммы от свадьбы свидетельствует о том, что Флетчер не прошел эти испытания, «испытания женскими эмоциями» (в отличие от жениха Лив), а разрыв непосредственно в момент бракосочетания обусловлен тем, что до этого времени испытания героев еще продолжаются. Эмма признает: их союз не идеальная пара. Следовательно, идеальная свадьба не может состояться. В знак искупления своей вины за испорченную свадьбу подруги, Лив готова отказаться от своей. Такой жест возможен в ситуации полного разрыва между свадьбой и заключением брака, когда свадьба совершенно не меняет ход событий семейного жизненного пути, переставая быть ритуалом. Логика выбора, подменяющая активные действия, изменяет поведенческие стратегии и в организации личной жизни индивида, идеальная пара создается путем выбора идеального партнера, исключая возможность влияния на взаимоотношения в паре. Это обусловливает легкость расставания жениха и невесты на свадьбе. Разрыв не драматизируется. Тема легкости развода подкреплена историей брака Аманды, подруги главных героинь, который длится ровно столько, сколько готовится их свадьба – три месяца.
Свадьба – организация срежиссированных переживаний, когда человек «покупает впечатление, он платит за незабываемые минуты своей жизни, подготовленные компани- ей (как в театральной пьесе), то есть за собственные чувства и ощущения» [11, p. 15]. Однако, несмотря на внутреннюю ориентацию, для генерирования эмоций и для их интерпретации человек общества переживаний испытывает потребность в других людях. Для того, чтобы эмоции состоялись, необходим их интерпретатор. Именно поэтому каждая из героинь нуждается не просто в «подружке невесты», а в собственной подруге, поэтому могла состояться только одна свадьба: на ней должна была присутствовать подруга. Между собственной свадьбой и свадьбой подруги Эмма выбирает свадьбу Лив, чтобы вместе пережить глубину эмоций события, о котором они мечтали вместе. Мужчина исключен из эмоционального переживания этого события, он не участвует в организации, нет сцен выбора им костюма (костюм выбирает только брат Лив), он не волнуется (организаторы торжества отдают команду проверить готовность жениха, священника, музыкантов и цветов), следовательно, он не способен разделить эмоции невесты, их может интерпретировать только другая невеста.
Все свидетельствует о том, что это свадьба двух женщин. Фильм пронизан аллюзиями на гомосексуальный союз. Помимо драки невест, после которой мы видим двух девушек с обнаженными плечами (и обрывком платья), лежащих на полу свадебного зала, в самом начале фильма восьмилетние Эмма и Лив играют в свадьбу, одна из них изображает жениха и надевает другой кольцо на палец, на их детском рисунке изображены две невесты, в их шкатулке под названием «свадебные вещи» лежит совместная фотография девочек. В виде фотографий запечатлены и главные моменты организации и празднования свадьбы: практически на всех две героини без своих женихов, они счастливо улыбаются, выбирают цветы, листают свадебные каталоги на диване (Лив лежит на коленях Эммы), танцуют на своей свадьбе и т. д., только две фотографии изображают сцены, на которых присутствует жених, это выбор кольца и разрезание торта на свадьбе – ритуализированные сцены, которые не могут состояться без него, как и обручение. Мы видим, как две невесты идут к алтарю, но сам обряд не показан. Ситуация отказа от брака может иметь фрейдистскую интерпретацию, какую дает Л. Малви в гендерном анализе вестерна: героиня, отказывающаяся от вступления в брак, разрешает напряжение между оппозицией «активности» и «пассивности» в пользу маскулинности и неприятия женственности [5]. Из последних кадров фильма мы узнаем, что Эмма вышла замуж за брата Лив. Эта свадьба не показана, она имеет ценность как оправдание того, что Эмма, как и ее подруга, беременна. Беременность необходима для дальнейшего поддержания этого союза. Одновременная беременность обеих женщин говорит о том, что их союзу не угрожает расставание из-за погружения только одной из них в семейные заботы – они смогут вместе растить детей.
Вывод
Фильм «Война невест» предлагает интерпретации образов новой женственности в контексте предсвадебных забот. Женские образы скорее подходят под описание мужской модели общества потребления – модели требовательности и несгибаемости [1, с. 89]. При этом образ стереотипного сильного мужчины – каким представлен жених Эммы – подвергается критике, он стремится командовать женщиной, совершенно немобилен, радуется возможной беременности невесты. Иллюстрируется полная трансформация гендерных отношений, в которых будет избран пассивный мужчина, не предпринимающий никаких действий по завоеванию партнерши.
Список литературы «Война невест»: между потреблением и переживанием
- Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры/Ж. Бодрийяр. -М.: Республика, 2006. -269 с.
- Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть/Ж. Бодрийяр. -М.: Добросвет, 2006. -389 с.
- Дегтярев, Е. Социальная критика Джона Карпентера: конспирология в «Чужих среди нас»/Е. Дегтярев//Логос. -2014. -№ 5 (101). -С. 141-162.
- Куренной, В. А. Философия фильма: упражнения в анализе/В. А. Куренной. -М.: Новое литературное обозрение, 2009. -232 с.
- Павлов, А. В. Постыдное удовольствие: философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа/А. В. Павлов. -М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. -360 с.
- Сувалко, А. С. Эмоциональный капитализм: коммерциализация чувств: препринт WP20/2013/05/А. С. Сувалко. -М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. -48 с.
- Хитров, А. В. «Безумцы» и условность социальных норм/А. В. Хитров//Логос. -2013. -№ 3 (93). -С. 118-138.
- De Lauretis, Т. Technologies of Gender: Essays on Theory, Film and Fiction/Т. De Lauretis. -Basingstoke: Macmillan Press, 1987. -151 p.
- Hochschild, A. Emotion work, feeling rules, and social structure/A. Hochschild//American Journal of Sociology. -1979. -№ 85. -P. 551-575.
- Hochschild, A. The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling/A. Hochschild. -Berkeley: University of California Press, 1983. -307 p.
- Pine, B. J. The Experience Economy: Work Is Theater and Every Business a Stage/B. J. Pine, J. H. Gilmore. -Boston: Harvard Business School Press, 1999. -359 p.