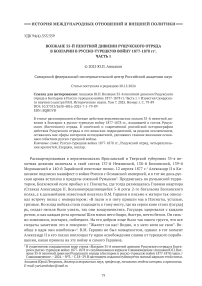Волжане 35-й пехотной дивизии Рущукского отряда в Болгарии в Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. Часть 1
Автор: Аншаков Ю.П.
Рубрика: История международных отношений и внешней политики
Статья в выпуске: 1 т.7, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются боевые действия верхневолжских полков 35-й пехотной дивизии в Болгарии в русско-турецкую войну 1877-1878 гг., входившей в состав Рущукского (Восточного) отряда. В советской и современной российской историографии действия Рущукского отряда и его воинских подразделений, за редким исключением, оставались вне сферы интересов исследователей, уделявших главное внимание основным событиям русско-турецкой войны.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг., Рущукский отряд, четырехугольник крепостей, Езерджи, Аяслар
Короткий адрес: https://sciup.org/148330687
IDR: 148330687 | УДК: 94(4).355/359 | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-1-79-89
Текст научной статьи Волжане 35-й пехотной дивизии Рущукского отряда в Болгарии в Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. Часть 1
Расквартированная в верхневолжских Ярославской и Тверской губерниях 35-я пехотная дивизия включала в свой состав 137-й Нежинский, 138-й Болховский, 139-й Моршанский и 140-й Зарайский пехотные полки. 12 апреля 1877 г.2 Александр II в Кишиневе подписал манифест о войне России с Османской империей, и в тот же день русская армия вступила в пределы союзной Румынии3. Продвигаясь по румынской территории, Болховский полк прибыл в г. Плоэшты, где тогда размещалась Главная квартира (Ставка) Александра II. Вольноопределяющийся 5-й роты 2-го батальона Болховского полка, а в дальнейшем известный писатель В.М. Гаршин в письме к матери так описывал встречу полка с императором: «В пыли и в поту пришли мы в Плоэшты, усталые, грязные. Но когда войска стали подходить к тому месту, где на сером коне стоял г[осуда] рь, солдат нельзя было узнать, так они воодушевились. Государь здоровался с каждою ротою, и как каждая рота кричала! Шли мимо него бодро, быстро, почти бегом. Он сильно изменился, постарел, побледнел. На его добром лице было так много грусти, что все солдаты заметили это и говорили: ”Жалеет он нас! Видно, и у него воля не своя”. Вообще в царя они влюблены»4. В.М. Гаршин не был монархистом, однако в тот момент Александр II в его глазах воплощал ту идею освобождения славян от турецкого порабощения, какая привела на эту войну и самого Гаршина.
-
1 В существенно сокращенном виде статья «Волжане 35-й пехотной дивизии Рущукского отряда в Болгарии в русско-турецкую войну 1877-1878 гг» опубликована в журнале Славяноведение: Аншаков Ю.П. Волжане 35-й пехотной дивизии Рущукского отряда в Болгарии в русско-турецкую войну 1877-1878 годов // Славяноведение. – 2024. – №3. – С.18–29. В настоящ ем издании публикуется полный вариант этой статьи.
-
16 июня Болховский полк переправился через Дунай и остановился под Систово (совр. назв. Свиштов), это первый болгарский город, освобожденный русскими войсками, где к нему присоединился 137-й Нежинский полк. «Вот и Болгария, за свободу которой только что были принесены первые жертвы5. Вот и правый берег Дуная, отличающийся своей дикой красотой и грозной неприступностью! Между двумя горами перед мостом виднелось полукруглое ущелье и узкие, прорытые параллельно берегу проходы, служившие местом расположения части, оборонявших переправу турок. На одной из этих гор сиротливо стоит полуразрушенный каменный домик, из которого турецкие офицеры наблюдали за переправой 14-й дивизии; домик этот 14 июня разрушен был удачными выстрелами нашей артиллерии и похоронил в своих обломках вмещавшихся в нем людей»,6 - замечал офицер, в дальнейшем капитан, этого полка С.К. Михеев. Он же подметил, что «сам город Систово со стороны Дуная очень живописен. Раскинутый амфитеатром по берегу реки и скатам горы, он покрыт садами и венчается руинами средневекового замка. На самом берегу под горою расположен ряд довольно красивых, в европейском стиле одноэтажных строений»7. Продвигаясь походным маршем, Болховский и Нежинский полки 23-го июня прибыли в д. Овчу-Могилу, где к ним присоединились 139-й Моршанский и 140-й Зарайский полки. И здесь в тот же день ими был получен приказ о формировании Рущукского отряда, куда влилась и 35-я пехотная дивизия, которой скоро предстояло в Болгарии вступить в бои с турками.
Рущукский (с января 1878 г. – Восточный) отряд возглавил великий князь, генерал от инфантерии, Александр Александрович, будущий император Александр III, а в дальнейшем после пленения Османа-паши и падения Плевны, 28 ноября 1877 г., герой обороны Севастополя в Крымскую войну и организатор блокады Плевны генерал-адъютант Э.И. Тотлебен. В состав отряда вошли XII и XIII армейские корпуса. XII-м корпусом командовал великий князь Владимир Александрович, младший брат наследника престола. XIII-м корпусом, куда входила и 35-я пехотная дивизия, командовал генерал-лейтенант А.Ф. Ган, а затем генерал-адъютант князь А.М. Дондуков-Корсаков.
В задачу Рущукского отряда входило обеспечение безопасности левого фланга Дунайской армии со стороны четырехугольника, образуемого турецкими крепостями Рущук (совр. назв. Русе), Шумлы (совр. назв. Шумен), Силистрия (совр. назв. Силистра) и Варна, а также защита подступов к занятым русскими войсками городам Беле (совр. назв. Бяла) и Тырново. Общая численность турецких войск, расквартированных в этих крепостях, составляла 99,1 тыс. человек при 360 орудиях8, из них более половины могли действовать вне их, как полевые войска. Первоначально роль Рущукского отряда, как самого многочисленного по сравнению с Передовым и Западным, в наступательных действиях была велика. С построением железной дороги до Варны возросло и значение самого Рущука. Здесь размещались арсеналы и склады, а также дислоцировалась турецкая флотилия. Сама крепость была обустроена по последнему слову фортификационной науки, ее гарнизон насчитывал до 30 тыс. человек9. Рущук в начале войны был ближайшей целью русских войск. 10 июля кавалерия Рущукского отряда произвела «общее наступательное движение» в сторону Рущука, и было приказано «во исполнение намерений» главнокомандующего Дунайской армией Николая Николаевича (старшего) приступить к обложению Рущука10. Однако уже 12 июля последовало иное распоряжение, что до разъяснения положения при Плевне обложение Рущука следует отменить и в случае нападения турок приступить к оборонительным действиям11. Рущукский отряд насчитывал в августе 55 847 человек пехоты и кавалерии при 224 орудиях и занимал в июле-августе линию фронта протяженностью 55 верст долинами рек Янтра, Лом и Кара-Лом (Черни Лом)12. Противостоящая Рущукскому отряду Восточнодунайская полевая армия была поделена на две армейские группы – Раз- градскую и Эски-Джумскую, где Разградская превосходила Эски-Джумскую как по численности пехоты, так и артиллерии. Первоначально они вместе насчитывали 40,5 тыс. человек пехоты и кавалерии при 96 орудиях. Однако уже в 10-х числах июля возглавлявший Восточнодунайскую армию мушир (фельдмаршал) Мехмед-Али-паша (принявший еще в юности ислам, онемеченный француз Карл Детруа) сумел увеличить войска до 59,5 тыс. человек при 144 орудиях. Эти войска опирались на четырехугольник крепостей, их линия фронта составляла не более 25 верст13.
Проведя ряд разведывательных боев, Мехмед-Али-паша сосредоточил свои силы восточнее реки Кара-Лом, а 13 июля 1877 г. сильный турецкий отряд Разградской армии, возглавляемый Азис-пашой, появился вблизи расположенной по скатам оврага большой (350 дворов) турецко-болгарской деревни Езерджи (совр. назв. Езерче), угрожая тем самым русским позициям под селом Костандец. Турецкий отряд состоял из 3 пехотных полков при 6 орудиях и 6 сотен кавалерии. Он в три раза превосходил численность русских войск, занимавших оборонительные позиции14. Здесь под д. Езерджи и приняли боевое крещение Болховский и Нежинский полки 35-й пехотной дивизии, прибывшие в Болгарию из Ярославской губернии. На военном совещании было принято решение, что при обнаружении противника его следует немедленно атаковать пехотой при поддержке кавалерии. В сражении при Езерджи участвовали: 11 рот 137-го Нежинского полка, 6 рот 138-го Болховского полка, 5-я батарея 35-й артиллерийской бригады и 3 эскадрона кавалерии гусар Ахтырско-го полка и донских казаков15.
Рано утром 14 июля на русские передовые посты у д. Костандец начала наступление турецкая кавалерия и пехота, а в полдень с турецких позиций у д. Езержди начала огонь турецкая артиллерия. Поначалу дело ограничилось стычкой казаков с турецкой кавалерией, после чего турки отступили. Прибывший в Костандец в 2 часа дня генерал-адъютант, генерал от кавалерии И.И. Воронцов-Дашков, инициатор этой военной операции, командовавший всей кавалерией Рущукского отряда (кроме казаков), возглавил действия против турок и приказал ротам Нежинского и Болховского полков вслед за кавалерией начать фронтальное наступление на Езерджи. Продвижению пехоты сильно мешали пахотные земли, овраги, затруднявшие спуски и подъемы, а также лесные густые заросли из колючих кустов, крайне затруднявших действия русской кавалерии и продвижение пехоты. В таких условиях шедшие впереди цепи солдат плохо видели друг друга и вынуждены были перекликаться между собой, чтобы не разойтись. Единственным для всех указателем направления стала турецкая батарея, на выстрелы которой продвигалась пехота16. Сплошные заросли не давали возможности офицерам руководить действиями рот, и судьба сражения перешла в руки солдат, по которым турки вели сплошной огонь, от которого «лес застонал». В свою очередь русская конная артиллерия начала обстреливать Езерджи, хотя из-за дальности расстояния картечные гранаты не достигали цели. Болховцы и нежинцы шли почти без выстрелов в одиночку или малыми группами «опрокидывая штыками попадавшегося на пути неприятеля»17. С этого времени бой стал исключительно пехотным. Выйдя на окраину леса, роты стали группироваться для атаки, но неожиданно с окраины деревни на них двинулись «толпы черных турецких пехотинцев (арабы) и бегом по поляне бросились к лесу»18. Воодушевляемые Азисом-пашой, они три раза бросались в атаку, но каждый раз отступали, неся большие потери, и, наконец, «высказали намерение бросить позицию». Бесстрашно разъезжавший вдоль цепи Азис-паша старался остановить бегущих. «Стреляй в генерала!» – послышалось у нас. И через несколько секунд храбрый паша упал с лошади тяжело раненный. Однако даже лежа на земле и увидев командира Нежинского полка Тинькова, Азис-паша «навел на него дуло револьвера». Спасая своего командира, рядовой этого полка Стратонов кинулся к паше и нанес ему смертельный удар штыком19. Убит был и другой турецкий военачальник Фезли-паша20 Нежинцы ворвались в деревню, и началось «кровавое дело», в котором работа шла штыком. Сады, канавы, улицы и дворы были завалены телами убитых турок21. Тем временем командир Болховского батальона майор Флоренский, ведя бой в лесу и оврагах, где у него 3 из 4-х командиров рот были ранены, все же выбил турок из трущоб, примыкавших к северной стороне Езерджи, и тем самым окончательно обеспечил захват деревни22. В 8:30 вечера бой закончился, а ахтырские гусары стали преследовать отступающих турок, но из-за темноты прекратили погоню.
Бой за Езерджи закончился русской победой, но все могло закончиться и иначе, причем практически сразу же. Поздним вечером, восстанавливая после боя порядок в ротах, командир нежинцев полковник Тиньков увидел на гребне высоты к юго-востоку от д. Езерджи в восьми близких друг от друга местах, силуэты густых колонн турецкой пехоты. Как потом рассказывал капитану Н.А. фон-Фохту полковник Тиньков, когда он увидел эти «грозные силуэты турецких таборов (батальонов)», то счел себя погибшим, поскольку теперь ничто не мешало туркам обстрелять артиллерией Езерджи, а затем атаковать пехотой и «вырвать из рук наших столь дорого купленную победу»23. Однако такого не произошло, поскольку турки, вероятно, предполагая, что у русских есть еще в запасе сильные резервы (хотя они были минимальные), предпочли отступить в сторону Разграда. Оценивая это сражение, командир 1-й бригады 35-й пехотной дивизии генерал-майор Тихменев в рапорте генерал-адъютанту И.И. Воронцову-Дашкову отмечал: «Бой при Езерджи чисто солдатский. Лишенные руководства более часа, в густой сплошной заросли, солдаты наступали дружно на звук неприятельского выстрела: успех этого дела есть прямой результат солдатского воспитания»24. Русские общие потери составили 254 человека, из них убитыми 2 офицера, 79 рядовых, ранеными 4 офицера и 169 рядовых. Болховский полк потерял в этом бою 141 человека, из них убит 41 рядовой. Наибольшие потери понесла 2-я стрелковая рота этого полка – 52 человека, поскольку именно она была «в пекле неприятельского огня». Турецкие потери, а в бою участвовала в основном гвардия, составили одними убитыми 249 человек, подобранных при уборке тел на поле боя, среди них был и Азис-паша, а также 1 английский офицер. 16 турок попало в плен25.
Итог боя при Езерджи отбил на время у турок желание вести наступательные действия. По поводу этого сражения великий князь Сергей Александрович отмечал в дневнике: «наши молодцы отогнали турок, один паша убит – Азис-паша и полковой командир», но тут же заметил, что начальник штаба Рущукского отряда П.С. Ванновский «не доволен этим делом, оно было совсем лишним, [это] трата людей»26. Более того, «все недовольны аванпостным делом Воронцова»,27 - замечал великий князь. В связи с этим следует сказать, что командование Рущукского отряда не проявило желания создать из Езерджи, расположенной всего в десяти верстах от Разграда, мощный аванпост, укрепив его войсками, как для эффективной, продуманной обороны, так и для наступательных действий. Предписанная главнокомандующим Дунайской армией Николаем Николаевичем (старшим) упомянутая выше тактика сугубо пассивной обороны фактически не позволяла это реализовать, и в дальнейшем такое будет касаться не только д. Езерджи.
После окончания боя кавалерийские части сводного отряда направились в Костандец, а пехота, взяв раненых и только часть погибших, вышла 15 июля в д. Соленик, где была отслужена панихида по погибшим, а их тела преданы земле в двух братских могилах. По окончании войны здесь был воздвигнут памятник из каменных плит и каменная часовня28. В тот же день, 15 июля, XIII-му корпусу было велено закрепиться на линии Кара-Вербовка, Еренджик, Осиково, поэтому 1-я бригада 35-й дивизии 16 июля выдвинулась из Соленика в д. Кара-Вербовка29. Поскольку уход войск из Езерджи был поспешный и не все тела погибших в бою были преданы земле, то 18 июля на поле боя были направлены солдаты для уборки тел30.
10 августа во время начала боев на Шипке великий князь Сергей Александрович, находившийся в Рущукском отряде при своем старшем брате, узнав об атаке турками Попкиоя (сов. назв. Попово), записал в дневнике: «Больно как-то, Попкиой у меня не выходит из головы. Господи, не оставь нас, помоги нам!»31. Однако молить Бога великому князю надо было не за и так хорошо укрепленную и обустроенную позицию вокруг д. Попкиой, а другую, маленькую болгарскую деревушку Аяслар (совр. наз. Светлен), поскольку вокруг нее в этот день начались напряженные бои, повлиявшие на дальнейшие действия Рущукского отряда. Первый удар 10 августа принял на себя малочисленный дежурный 2-й батальон 137-го Нежинского пехотного полка. Находясь на правом высоком берегу р. Кара-Лом, он был атакован 8-ю таборами турецких войск и отступил с горы Киричен-баир на левый берег этой реки, где концентрировались основные русские войска. Так, вблизи д. Аяслар и у высоты Киричен-баир 10-11-го августа начались бои с участием полков 35-й пехотной дивизии. Следует сказать, что с 25-го июля по 9-е августа 1877 г. Моршанский, Зарайский, Нежинский и Болховский полки дислоцировались в деревнях Попкиой, Опака, Ковачица неподалеку от Аяслара, занимаясь укреплением аясларских позиций32. Командир XIII-го корпуса генерал-лейтенант А.Ф. Ган отдал приказ начальнику 1-й пехотной дивизии и одновременно командиру сформированного Попкиойского отряда генерал-майору Прохорову вернуть позицию у Аяслара и за ночь ее укрепить33. Аясларская позиция была нужна, поскольку именно она прикрывала подступы к важным в военном отношении деревням Попкиой, Хадаркиой и Гагово34.
Занимаемые турками высоты правого берега р. Кара-Лом были еще ранее мощно укреплены и создавали возможность перейти в дальнейшем к наступательным действиям, и занятая ими гора Киричен-баир этому способствовала. Для возвращения расположенных впереди д. Аяслар Кириченских высот и главной горы Киричен-баир генерал Прохоров изначально выделил 2 батальона 1-го пехотного Невского полка, 2-й пехотный Софийский полк, артиллерию и сотню донских казаков. Так как дневная атака такой труднодоступной горы, как Киричен-баир, могла привести к большим людским потерям, было решено штурмовать эту высоту лишь с наступлением темноты. С этой целью войска, назначенные к атаке, сконцентрировались вечером 10-го августа на правом берегу Кара-Лома у подножья горы Киричен-баир. В качестве резерва этим воинским частям предавались 2 батальона Болховского полка, которые в 8:30 вечера заняли позицию в роще на левом берегу Кара-Лома. Отсюда, находясь на расстоянии немногим более версты, болховцы поначалу только наблюдали за ходом боя, начавшегося в 9 часов вечера. Историограф Болховского полка, свидетель и участник происходившего С.К. Михеев, заимствуя почти целиком (дополнив только участием Невского полка в этом бою), приводит описание боя в изложении его участника В.М. Гаршина: «Луна сильно светила и озаряла гору; за которой уже шел бой. Снизу горы виднелась линия огней – наша цепь, а сверху более густая линия огней – турецкая цепь. Обе цепи перемещались: софийцы и невцы шли в атаку. Верхние огни вспыхивали все дальше и дальше, все выше и выше. Звуки ружейных и артиллерийских выстрелов становились все чаще, переходя иногда в сплошную трескотню. Все с любопытством смотрели на эту картину. Вдруг в воздухе раздалось над нами какое-то шипение. - Пуля! – закричал кто-то. - Ладно, лежи… умирать долетают. Действительно, пули были уже на излете, это всегда слышно по звуку. Пуля близкого выстрела визжит и свистит, а та, которая «умирает» долетает, шипит, как змея. Пули около нас стали летать все чаще и чаще, но никого не задевали; все стали думать, что они перелетают или падают безвредно на землю. Люди уже не обращали на них внимание… Вдруг в 8-й роте зашевелились и загомонили. - Неси! – послышался чей-то голос. Оказалось, что пуля, прилетевшая умирать, не захотела умирать одна и попала прямо в сердце солдату. Вскоре контужен был еще рядовой 5-й роты, и боль- ше за всю ночь пули никого не задевали. Несмотря на свист и шипение, люди успокоились; между тем впереди раздавалось наше «ура!». Это софийцы и невцы штурмовали гору» 35.
Молча, почти не отвечая на интенсивный огонь турок, войска поднимались на высоту Киричен-баир, метко сбивая турецких стрелков. При этом 3-м батальоном Софийского полка был взят редут, а 5-я и 6-я роты этого полка захватили южный отрог Киричен-ба-ира. Затем мощным штыковым ударом софийцев турки были опрокинуты, и в 11 часов 40 минут ночи высота Киричен-баир была взята, а турки, прекратив огонь, отступили на ближайшие высоты36. Так удачно для русских войск закончилось Аясларское дело 10 августа. Отступившие турки не смирились с потерей столь важной для них высоты и практически сразу же в 12 часов ночи открыли по Киричен-баиру артиллерийский огонь. Вслед за этим с криком «Алла» они бросились в атаку, повторив ее трижды, но каждый раз были отброшены русскими штыками, а затем софийцы и невцы отбили и 4-ю атаку турок. Измотанный в бою и растративший все патроны 3-й батальон Софийского полка вышел из боя, и в 2 часа ночи 11 августа его сменил 2-й батальон Болховского полка, перешедший по мосту на правый берег Кара-Лома. «Софийцы спускались с горы, так как мы шли им на смену. Измученные бессонною ночью, и жаждой, и нервным напряжением, они едва брели, ничего не отвечая на наши расспросы: много ли турок, силен ли огонь. Только некоторые тихо говорили: Дай вам Господи! И-и-и, как жарит!»37. Далее Гаршин вспоминал: «Обогнув скалу, мы вылезли совсем наверх и двинулись между густых и высоких кустов. Кто нас вел – не знаю; все шли по направлению выстрелов, с трудом пробираясь между кустами. Вот наконец и узенькая дорожка. Вперед! Бегом! Тут уже лежали свежие трупы наших и турок, навстречу нам уже несли раненых»38. Еще 2 турецкие атаки при активной помощи болховцев и невцев были отбиты оставшимися в бою солдатами 2-й роты 1-го Софийского батальона. Затем наступила передышка, продолжавшаяся до 9 утра 11 августа, после чего турки возобновили наступательные бои, продолжавшиеся весь день, в одном из которых был ранен и рядовой Гаршин. В контратаке несколько солдат-болховцев оторвались от 5-й роты, когда Гаршин с товарищами заметили раненого своего сослуживца Степана Федорова, они хотели оказать ему помощь, но тот уже был мертв. В это время спереди из кустов раздался залп, ранивший и рядового Гаршина, и поручика Олешкевича. Однако, к счастью для них, свидетель этой сцены, уже упоминавшийся вольноопределяющийся и всего лишь через неделю после этого боя Георгиевский кавалер Николай Грегенгер бросился в эти кусты и заколол засевших там 3-х турок39. Так что крест он заслужил хотя бы тем, что, по всей видимости, он спас жизнь В.М. Гаршину, ставшему в 1870-1880-х гг. одним из известных и читаемых писателей России. Сам Гаршин вспоминал: «Через минуту что-то ударило меня, будто огромным камнем. Я упал; кровь лилась из ноги струею. Помню, что вдруг я сразу вспомнил все: родину, родных, друзей и радостно подумал, что я еще увижу их»40.
Первые известия об аясларском сражении внушали оптимизм. Великий князь Сергей Александрович 11 августа сделал в дневнике следующую запись: «у Саши было дело у Аяс-лара, неприятель отброшен»41. Великому князю вторил граф С.Д. Шереметев: «Турки атаковали три раза; отброшены блистательно; отличились полки: Невский, Софийский, Бол-ховский…», а на телеграфный запрос Александра II о делах в XIII-м корпусе последовал ответ Шереметева: «давно отправлена телеграмма с известием о победе при Аясларе»42. Тем временем в штаб XIII-го корпуса от генерала Прохорова стали поступать иные сведения, и они были неутешительны. В них сообщалось, что, хотя Кириченские высоты и взяты благодоря героическим усилиям наших войск, но удержать их без помощи свежих войск становится крайне трудно. Неразбериха, царившая в штабе XIII-го корпуса, привела к тому, что один батальон Нежинского полка во главе с его командиром, полковником Тиньковым, утром 11 августа был отправлен, но не к Аяслару, а в Амуркиой (Омуркиой), другой батальон нежинцев – в Попкиой. Между тем ружейная стрельба со стороны турок охватывала все большее пространство вокруг боевых линий русской пехоты. Особо интенсивный огонь велся там, где стояли батальоны Болховского полка. Направленный из штаба к генералу Прохорову с целью прояснить ситуацию вокруг Аяслара капитан, в дальнейшем подполковник, фон-Фохт вспоминал, что командир Болховского полка полковник Буссе на его вопрос, обращенный к генералу Прохорову, что ему делать «с его слабыми и истощенными в боях болховцами?», - получил ответ через своего адъютанта пока держаться, хотя бы пришлось и умереть»43. В течение временного затишья с 9:30 до 2-х часов дня 11 августа турки создали новые артиллерийские позиции. Русские войска, не имея возможности доставить орудия на высоту Киричен-баир, стреляя же через гору, рисковали попасть по своим, вели только пехотный бой ослабленными батальонами. В конечном итоге все же направленное к Аяслару подкрепление из 8-ми рот 139-го Моршанского полка, 3-х рот 138-го Болховского полка и 2-х сотен казаков прибыли на место лишь в 6 часов вечера и уже не могли спасти положение44.
После бессонной ночи и многих часов изматывающего боя при 40-градусной жаре, не получив, в отличие от турок, вовремя подкрепления, без воды и пищи, выдержав в общей сложности 12 атак русский отряд вынужден был отступить перед превосходящими силами турок численностью от 16-ти до 20-ти таборов при 12-ти орудиях под командованием Дер-виш-паши45. Турки, не ожидавшие отхода русских, дали им возможность беспрепятственно перейти на левый берег р. Кара-Лом и укрыться в той же роще, откуда начиналось Аяслар-ское дело Болховского полка. Там уже совершенно выбитые из сил «многие едва передвигали ноги и наконец падали, - все поле от Лома до рощи было усеяно людьми, стонущими и охающими от мучительного изнурения; некоторые из них просили не трогать их с места и дать спокойно умереть или оставить на произвол неприятеля»46. В реляции о Аясларском сражении начальник отряда генерал Прохоров отмечал: «совесть обязывает меня засвидетельствовать о примерном усердии, героической неустрашимости, терпении, храбрости и замечательной стойкости нижних чинов; усердии, распорядительности и самоотверженной храбрости офицеров, бывших все время в голове своих частей и служивших прекрасным примером доблестного духа, одушевлявшего весь отряд, и что все чины отряда от генерала до солдата исполнили долг свой честно и добросовестно, истощив все физические и душевные силы, и сделали все, что было в силах человеческих»47. Этот бой стал не только свидетельством героизма и мужества солдат и офицеров, но и выдающимся образцом ночного штурма, когда русские войска в ночном бою не только вернули высоту Киричен-ба-ир, но и восемнадцать часов удерживали ее против превосходящих турецких сил. Остается только добавить, что за этот бой рядовой В.М. Гаршин был представлен к производству в офицеры48. Положение русских войск после Аясларского боя осталось прежним, но с той лишь существенной разницей, что турки прочно обосновались на высотах правого берега Кара-Лома и всю последующую войну 1877 г. не отдавали ее русским войскам49. Таким образом, туркам все же удалось «потеснить» русских, однако приступить к дальнейшим атакующим действиям Мехмед-Али-паша пока не решался.
В сражении под Аясларом 10-11 августа общие потери отряда составили: убитыми – 2 офицера и 62 рядовых; ранеными – 10 офицеров и 280 рядовых; без вести пропало – 4 рядовых. Наибольшие потери понес Болховский полк, потерявший убитыми – 30 рядовых, ранеными – 4-х офицеров и 124 рядовых50. Впоследствии турецкий парламентер Изет-бей, прибывший в штаб XIII-го корпуса, спрашивал, шутя: «отчего мы не пошли на Шумлу; мы только этого и ждали, тогда весь ваш отряд попал бы в наши руки»51.
Однако на этом Аясларское дело не закончилось. Когда начали выяснять причины неудачного исхода сражения, то великий князь Сергей Александрович по этому поводу заметил следующее: «Сашу мне ужасно жалко, да бедного Ванновского. Одна была ужасная ошибка – это нач[альника] штаба 13-го корпуса Ильяшевича, который по непростительной оплошности укреплял Попкиой вместо Аяслара. Попкиой оказался у подошвы горы, а Аяслар на горе; он уверял, что Аяслар не позиция! Ну, ему же и досталось, и, вероятно, его сменят»52. Таким образом, из-за грубейшей ошибки высокопоставленного штабиста был упущен уникальный шанс создать русский мощный аванпост на правом берегу Кара-Лома, который бы клином вдавался и нависал над турецкими войсками, не позволял бы им безоглядно вести в дальнейшем наступательные действия. К сожалению, великий князь тогда ошибся насчет замены полковника Л.И. Ильяшевича, что еще скажется в самое ближайшее время.