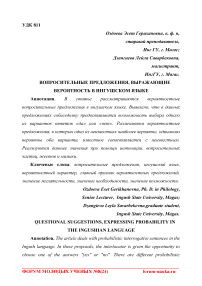Вопросительные предложения, выражающие вероятность в ингушском языке
Автор: Оздоева Э.Г., Дзангиева Л.С.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 8 (24), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вероятностные вопросительные предложения в ингушском языке. Выявлено, что в данных предложениях собеседнику предоставляется возможность выбора одного из вариантов ответов «да» или «нет». Различаются вероятностные предложения, в которых одно из неизвестных наиболее вероятно, одинаково вероятны оба варианта, известное сопоставляется с неизвестным. Реализуются данные значения при помощи интонации, вопросительных частиц, жестов и мимики.
Вопросительные предложения, ингушский язык, вероятностный характер, главный признак вероятностных предложений, значение желательности, значение необходимости, значение возможности
Короткий адрес: https://sciup.org/140284081
IDR: 140284081
Текст научной статьи Вопросительные предложения, выражающие вероятность в ингушском языке
Предложение - это один из основных объектов изучения современных ингушских исследователей [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], так как не все вопросы теории синтаксиса нашли свое окончательное решение. Предложение является сложной конструкцией, которая характеризуется с трех сторон: смысловой, формальной и коммуникативной. С коммуникативной точки зрения предложения бывают повествовательные, вопросительные и восклицательные.
«Вопросительные предложения выражают желание говорящего получить ответ (информацию) от собеседника, узнать то, что существует или отсутствует в действительности» [7, с.26]. В нашей статье рассматривается один из его семантических типов - вопросительные предложения, выражающие вероятность. Данный тип предложений отличается особой вопросительной интонацией, которая является главным средством, передающим вероятностный характер и желание предоставить собеседнику один из возможных вариантов ответа. Выясняя известную информацию, адресант с помощью собеседника пытается из ряда неизвестных выбрать нечто определенное, что помогло бы ему закончить собственные логические рассуждения. Степень неизвестности и характер неизвестного различаются в каждом конкретном случае.
Вопросительные предложения с вероятностным значением в ингушском языке делятся на типы:
-
1) предложения, в которых одно из неизвестных наиболее вероятно. Об этом свидетельствует вынесение этого наиболее вероятного в саму
структуру вопроса, например: - Студенташта йовзий хьа кепайийтта стихаш ?
-
2) значение, когда одинаково вероятно наличие или отсутствие действия. Неизвестное в таких предложениях названо словом с взаимоисключающим противопоставлением. В таком вопросе противопоставлены два неизвестных, из которых одно исключает другое» Например: - Маькх йий хьога?
-
3) значение, когда неизвестное сопоставляется с предшествующим, уже известным. Неизвестное здесь связано с предшествующим высказыванием (характеризуется наличием союзной частицы «х1аьта» . Например: - Хьа кхоллам бовзарий царна? Х1аьта хьо малав ховрий цунна ?»; - Институте деша эттарий хьо? Х1аьта чакхвоалаш хала Дарий?
Таким образом, в вопросах, рассматривающих степень и характер неизвестного, выражается ответ «да» или «нет», т.е. на любой из рассмотренных в качестве иллюстративного материала вопросов можно ответить двояко - ответом «да» или «нет»: Студенташта йовзий хьа кепайийтта стихаш? - йовз/йовзац; Царна ховрий, 1а байташ язъелга? - ховр/хацар ; Х1аьта хьо малав ховрий цунна? - ховр/хацар .
Следовательно, альтернатива - это главный признак вероятностных вопросительных предложений в ингушском языке.
В конструкциях, составляющих ядро пропозициональной модальности, глаголы в которых представлены вопросительным наклонением вариант ответа отсутствует: - Даа х1ама телий хьона? Д1айха дий?... Дулхах даар хулий ? Мусас корта оагабир: - Дулхах даар?.. Хиннадац . Здесь на заданных первых два вопроса адресант не получил ответа. Встречаются случаи, когда ответ выражается не словесно, а с помощью жестов или мимики, например: - Дика хетий хьона цига? Лидас б1аргаш д1а а къайла, корта лостабир .
В диалоге типа: -« Мобильни телефонаш яр уж? - Тха хана цу тайпа телефонаш яцар...» , адресат не ответил ни «да», ни «нет», а выбрал третий вариант ответа, не предусмотренный в вопросе. Такие предложения встречаются в основном публицистическом и научном стилях.
Ситуативная модальность почти не встречается в публицистике. Она призвана расшифровывать объективную модальность, указывая на не существующие в рамках наличной действительности определенные предпосылки именуемого события: « Мотт ца хой кхыдола 1илмаш тохкалургдий ?»; «Хьанна еза республика? ».
В художественных произведениях конструкции со значениями ситуативной модальности встречаются очень часто. Что касается ирреальности вопросительных предложений, передающих вероятностный характер, то здесь адресанту неизвестно одновременно и то, осознал ли адресат свое состояние или нет, и то, возникла или не возникла вообще у него данная потребность. Высочайшая степень концентрации неизвестности разрешается адресантом самым простейшим образом, отражающим особенность ингушского менталитета, сформированного столетиями. Вместо того, чтобы интересоваться возможностями адресата (может или не может последний что-либо осуществить) или же степенью необходимости осуществления действия, адресант просто спрашивает, очевидно, предполагая несущественными все остальные мотивы деятельности человека, например: « Безам бий хьа из цхьаннена д1але ? »; « Чай мала безам бий хьа ?»; « Хьажа безам бий хьа ? ».
Преобладание модального значения желательности над значениями, необходимости и возможности объясняется тем фактом, что мотив желания до сих пор остается главным в мотивации деятельности человека.
Также, очень часто употребляются и вопросительные предложения с дополнительным модальным значением возможности. В данных предложениях говорящий пытается выяснить, имеются или нет условия для совершения действия. Подобная семантика соотносится с альтернативной возможностью выбора, заключенной в значении вопросительных предложений. Значение в таких предложениях не двусмысленно, а конкретно, например: «Саг ве могаргдарий хьона?»; «1уйранна виза 1от1аоттае мегаций цига?». Указанное значение реализуется в предложении с помощью модальных средств: глаголов, частиц и др. Чаще других в таких предложениях употребляется глагол мага - мочь, например: «Лела могий хьона?»; «Из йоазув 1одеша могий хьа б1аргашта?»; «Кхоана со волча балха хьат1а ва могаргдий хьона?»; «Ца яздеш дита мегий из? — хьоставенна хаьттар Зубайра».
Итак, из вышесказанного следует, что вопросительные предложения благодаря своей направленности на получение информации выступают как первый компонент сочетания реплик, предназначенного для обмена информацией в диалоге. Во внутренней речи, в размышлениях вопрос может быть ориентирован на получение непосредственного ответа. С точки зрения характера ожидаемого ответа вопросительные предложения неоднородны: ответ может подтверждать или отрицать истинность чего-либо, либо сообщать новые сведения о чем-либо.
Список литературы Вопросительные предложения, выражающие вероятность в ингушском языке
- Алиева П.М., Дудургова Э.М., Оздоева Э.Г. Локальные предложения во французском, русском и ингушском языках (на материале художественной литературы) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 4 (82). Ч.1. С. 49-52.
- Баркинхоева З. М., Хайрова Х. Р. Проблемы синтаксиса ингушского языка. - Нальчик, 2007.
- Гандалоева А.З. Актуальные вопросы синтаксиса простого предложения в ингушском языке. Магас: Изд-во ИнгГУ, 2012. 204 с.
- Гандалоева А.З. Х1анзара г1алг1ай мотт. Синтаксис. (Дешара пособи университета студенташта лаьрх1а). Назрань. ООО «Кеп», 2018, 352 с.
- Оздоева Ф.Г., Кульбужев М.А. Г1алг1ай метта синтаксис (дешара пособи). - Магас, 2006, 87 с.
- Оздоева Э.Г. Г1алг1ай метта хаттар доацеи хаттареи предложеней юкъара кхетам (Общее определение вопросительных и невопросительных предложений в ингушском языке) // Вузовское образование и наука: материалы Всероссийской научно-практической конференции / Ингушский государственный университет. Магас, 2015, с.161-163.
- Оздоева Э.Г. Оформление вопросительных предложений в ингушском языке. // Материалы международной научно-практической конференции «Современные концепции научных исследований». «ЕСУ» № 11 (20). Часть 4. - М., 2015. С.26-28.