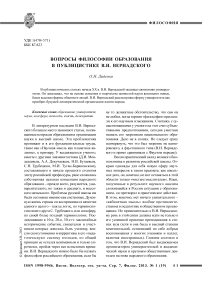Вопросы философии образования публицистике В. И. Вернадского
Автор: Диденко Ольга Николаевна
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (19), 2013 года.
Бесплатный доступ
В публицистических статьях начала XX в. В.И. Вернадский защищал автономию университетов. Он доказывал, что на основе освоения и творчества ценностей науки возникают новые, более высокие формы общности людей. В.И. Вернадский рассматривал форму университета как рообраз будущей демократической организации жизни народа.
Образование, университет, наука, ноосфера, личность, власть, демократия
Короткий адрес: https://sciup.org/14974579
IDR: 14974579 | УДК: 1(470+571)
Текст научной статьи Вопросы философии образования публицистике В. И. Вернадского
В литературном наследии В.И. Вернадского большое место занимают статьи, посвященные вопросам образования и организации науки в высшей школе. Эта проблематика проникает и в его фундаментальные труды, такие как «Научная мысль как планетное явление», к примеру. У выдающегося ученого, вместе с другими знаменитостями (Д.И. Менделеевым, А.А. Докучаевым, Н.В. Бугаевым, С.Н. Трубецким, М.И. Туган-Барановским), составлявшего в начале прошлого столетия элиту российской профессуры, рано сложилась собственная цельная концепция народного образования – прежде всего, разумеется, университетского, но также и среднего, и массового начального. Проблемы русской школы им были осознаны именно как системные. Духовную жизнь страны он воспринимал в качестве единого целого – как ее логос, по терминологии своего друга С. Трубецкого, или ноосферу, по своей более поздней терминологии. Последовавшие в 10-е, 20-е, 30-е гг. масштабные исторические события, свидетелем и участником которых довелось быть ученому, внесли свои уточнения и коррективы в его «педагогическую» систему взглядов, но общий принцип ее остался неизменным и только упрочился, пройдя через все испытания времени. В.И. Вернадского можно было бы назвать философом российского образования, если бы не то деликатное обстоятельство, что сам он не любил, когда термин «философия» прилагали к его научным изысканиям. Считаясь с существовавшими у ученого на этот счет субъективными предпочтениями, сегодня уместнее назвать его теоретиком национального образования. Дело не в словах. Но следует сразу подчеркнуть, что это был теоретик не вагнеровского, а фаустовского типа (В.И. Вернадского и прямо сравнивали с Фаустом нередко).
Весом практический вклад великого биогеохимика в развитие российской школы. Открыв однажды для себя новую сферу научных интересов в таком предмете, как школьное дело, он, конечно, не мог оставаться в этой области только «чистым мыслителем». Идеи, полученные в результате научного анализа сложившейся в России ситуации с образованием, он претворял в практическое действие. В этом, конечно, нет ничего удивительного – «кабинетная мысль» вообще противоестественна в педагогике и общественном просвещении. Но применительно к В.И. Вернадскому речь в этой связи должна идти не только о его успешной практике преподавания в стенах вуза (хотя и она была в высшей степени замечательной, оставившей по себе добрые воспоминания у многих учеников и коллег, включая иностранных). Главное состояло в том, что В.И. Вернадский был выдающимся организатором университетской и академической науки и крупным общественным деятелем на ниве народного образования.
Согласно В.И. Вернадскому, высшая школа имеет перед собой три основные задачи. Она, как пишет ученый, должна учить подрастающее молодое поколение, сообщать ему то, что добыто человеческой мыслью, приучать его научно мыслить и работать в соответствии с освоенными научными знаниями. Она должна явиться очагом научного искания, быть центром самостоятельной научной деятельности. И наконец, она должна быть «носительницей просвещения в обществе и народе, оживлять в зрелом возрасте узнанное и пережитое в молодости, распространять новые знания, новые приемы работы и мышления» [2, с. 233]. Таким образом, триада – обучение, научное исследование, просвещение – составляет главные общественные функции высшей школы.
Очевидно, что поставленные В.И. Вернадским в 1905–1917 гг. перед сферой высшего образования цели не явились тогда для нее совершенной новостью. В сущности, таковыми всегда и были традиционные направления деятельности европейского университета с момента его возникновения в далеком средневековье, в подобном духе во все времена и понимали общественный смысл своей профессии все поколения профессоров, докторов и ректоров. В.И. Вернадский не стремился здесь к оригинальности. Логика его «нау-коучения» как раз и предполагает, что вечные цели должны существовать у высшей школы. Ведь научная мысль есть порождение в последнем счете даже не истории общества, а истории планеты (живого вещества Земли). Это феномен не только общественно-исторический, но и «геологический», и космический. История теоретического разума, на определенном этапе своего развития с неизбежностью порождающего в качестве своего «органа» формы высшего образования, есть в целом «история проявления нового геологического фактора, нового выражения организованности биосферы, сложившегося стихийно, как природное явление, в последние несколько десятков тысяч лет. Она не случайна, как всякое природное явление, она закономерна, как закономерен в ходе времени палеонтологический процесс, создавший мозг Homo sapiens и ту социальную среду, в которой как ее следствие, как связанный с ней природный процесс создается научная мысль, новая геологическая сознательно направляемая сила» [3, с. 318]. Закономерный характер развития научной мысли предопределяет, помимо прочего, и существование нормы в отношении науки к насущным делам и проблемам общества. Наука не изолирована от общества, ее «планетное» происхождение не означает полного удаления от забот общественной практики. Норма участия институтов науки в процессах общественной жизни находит разные выражения, в том числе она предстает с большой наглядностью и в виде отмеченных В.И. Вернадским «вечных» целей высшей школы. Обучение молодежи, производство научного знания и просвещение народа есть триединое дело университета в любые времена, эпохи, при любом экономическом строе и политическом режиме. В противном случае мы имеем перед собой не университет, а учебное заведение, представляющее собой некое явление мимикрии, самозванства. Однако подобные «мутации» в практике высшего образования на самом деле встречаются редко. Исследования В.И. Вернадского по истории науки и образования убеждают в этом. Примеры отступления и отречения высшей школы от своей априорной триадической интенции не характерны для европейской культуры. Чтя свой высший социально-этический императив, европейский университет делал то главное, что должен был делать для общества, даже при самых неблагоприятных обстоятельствах (вызываемых, например, действиями деспотических властей или анархической толпы). Университет легче закрыть, чем заставить «потерять лицо» в данном принципиальном отношении. В этом плане высшая школа, можно сказать, уже давно живет по законам «ноосферы». Из статей В.И. Вернадского «межреволюционного» периода, посвященных анализу состояния отечественной школы в трудное, кризисное для России время, мы видим, что и российский университет сохранял должную стойкость и верность принципам. «Можно сказать без преувеличения, – писал Вернадский, – что главная научная работа России сделана без серьезной сознательной помощи русского правительства. Это – дело общества, дело профессуры и руководимых ими институтов и семинарий, помимо и воп- реки желаниям министерства народного просвещения» [2, с. 244].
В.И. Вернадский настаивал на том, что автономия университета является неотъемлемым атрибутом высшего образования. С самого своего появления европейские университеты позиционировались как независимые образовательные корпорации, и их свобода от властей светских и духовных явилась необходимым условием внутренней жизни. В статьях о высшей школе в России В.И. Вернадский обличает порочный подход бюрократов от системы просвещения к определению роли преподавателя, профессора. Г.П. Аксенов, биограф и исследователь творчества ученого, пишет об этом: «Правительство исходило из того, что преподаватель всего лишь учитель. Вернадский упорно восстанавливает истину: профессор высшего учебного заведения, в отличие от учителя школы, должен и призван вести собственную исследовательскую работу» [1, с. 38]. В.И. Вернадский основывает свою позицию на том статусе профессора, который сложился с самого начала высшего образования в Европе и надолго предопределил авторитет представителя университетской науки. Самостоятельная творческая работа профессора, утверждает В.И. Вернадский в статьях «Наука и проект университетского устава А.Н. Шварца» и в трех обзорах «Письма о высшем образовании», обеспечивает уважение к научной истине со стороны молодого поколения, прививает дисциплину мысли и, разумеется, поднимает уровень науки в стране.
Несогласия В.И. Вернадского с образовательной политикой имперских властей коренились в том, что те не понимали и не желали понять специфики университета как явления культуры. Бюрократия по природе своей склонна рассматривать деятельность высшей школы с точки зрения государственной целесообразности. Но существует принципиальное различие между университетской и, так сказать, государственно-целесообразной, единственно знакомой бюрократии, формами знания. В сфере государственных отношений, включая государственное управление, научное знание присутствует в форме абстракций, или «отвлеченного мышления», как сказали бы славянофилы, а вслед за ними Вл. Соловьев и ряд других философов Серебряного века. Как известно, они подвергли критике такую форму духа. По приговору наших мыслителей, своеобразным выражением такого рода духовного отчуждения стала философия Гегеля. Гегеля вообще часто называют этатистом, может быть и не вполне справедливо, однако он на самом деле находил в государстве высшую действительность духа. Он дал повод к тому, чтобы его объективный идеализм стали считать философским аналогом всевластия государственных отношений, рациональных, но не считающихся с целостностью и онтологическими правами конкретного человеческого существа, живой индивидуальности. Как полагал Вл. Соловьев, Гегель все превратил в отношения, и у него исчезли относящиеся, то есть реальные субъекты отношений. Гегель, считал Соловьев, «не признает ничего, кроме чисто логических или относительных определений… Субъект является для него только как один из последующих моментов в саморазвитии чистого понятия… а не как сущий. Поэтому для него все логические определения суть сказуемые без подлежащих… В таком виде они теряют всякую действительную определенность» [6, с. 277]. Философия Вл. Соловьева требует различать мышление, мыслящего субъекта и мыслимое содержание, – но различать именно для того, чтобы найти их истинное единство, более полное и гармоническое, чем гегелевское «понятие». Такое совершенное единство выступает вместе с тем и высшей формой знания – «цельным знанием». В.И. Вернадский не стал горячим поклонником философии Вл. Соловьева (хотя был очень дружен с первым учеником знаменитого философа – С.Н. Трубецким), однако идея «цельного знания», идущая от славянофилов, в некоторых отношениях была ему не чужда. Можно сказать, что отличие университетской формы знания, как понимал ее природу В.И. Вернадский, от знания как элемента деятельности государственного механизма, состоит в том, что первая стремится к идеалу «цельного знания», а вторая и знать не знает о существовании такого идеала.
Не обязательно вслед за славянофилами представлять государственные отношения как сферу отчуждения, но верно то, что научное знание выступает здесь преимуществен- но в роли средства, полезной вещи, следовательно, как абстракция, отвлеченная мысль, рациональная структура. В этом нет ничего дурного, но лишь до тех пор, пока бюрократия от имени государства не начинает требовать, чтобы университет, высшая школа занимались исключительно воспроизводством полезного для общества (и в первую очередь для самого государства) абстрактного знания, не отвлекаясь ни на какие иные цели. И коли такие требования от бюрократических органов на самом деле исходят, то это и есть не что иное как дурная гегельянщина, кустарная попытка превращения понятия в самодовлеющую субстанцию-субъект.
Но разве не всякая наука есть отвлеченное мышление, разве рациональная, понятийная форма не является специфической для науки? Да, является, и благодаря этой теоретической форме мы способны постигнуть объективную реальность в ее собственном, независимом от наших желаний виде. Причем, по логике В.И. Вернадского, это великое достоинство науки, а вовсе не свидетельство какой-то изначальной принадлежности ее, как объективного знания, к миру отчуждения, миру «объективаций» (Н. Бердяев), несовместимых со свободой человека. В.И. Вернадский совершенно не принимал подобных «экзистенциалистских» претензий к объективному научному знанию. Он отбивал эти критические наскоки тем веским доводом, что знание, будучи всеобщим, общезначимым по форме, вместе с тем создается личностью. Знание приходит в мир культуры как открытие, и совершает его личность, цельная человеческая индивидуальность. Как свидетельствует Г.П. Аксенов: «Личность ученого, и еще в большей степени ее социальное значение, становится для Вернадского центральной темой… Вернадский пришел к принципиальному выводу: любое творчество, способное изменить жизнь, возможно исключительно в личностной форме, через осуществление своего призвания» [1, с. 40]. По мнению будущего создателя учения о ноосфере, именно в науке, как ни в какой другой сфере деятельности, велика роль личности. История науки не может основываться на одной коллективной работе. «В ней выступают вперед отдельные личности, резко выделяющиеся среди толпы или силой своего ума, или его ясностью, или широтой мысли, или энергией воли, интуицией, творчеством, пониманием окружающего… И эти выдающиеся люди не могут быть заменены в большинстве научных открытий коллективной работой многих» [2, с. 42]. Словом, согласно «наукоучению» В.И. Вернадского, история мировой науки есть история научно мыслящих личностей.
Выдающийся ученый исходил из того, что в отношениях между личностями, продуктивно работающими в науке, возникает новое, более высокое качество общественности, в данный момент еще не доступное широкому кругу людей, основной массе общества. Такие великие ценности, как истина и справедливость, пользуются большим, чем где бы то ни было еще, авторитетом именно в «республике ученых» (И. Кант), ее подданные и оценивают друг друга прежде всего по степени духовной приверженности этим ценностям, поэтому здесь выше уровень взаимопонимания, духовной солидарности, чем среди обычных граждан обычного государства. Вообще императивы этики науки более влиятельны и действенны, чем правила наличной общественной морали; личные интересы не расходятся с общими, деловой порядок в основном обеспечивается товарищеской дисциплиной и т. д. Причем многое из этого касается отношений не только между современниками, но и между жившими в разные эпохи личностями, оставившими свой след в науке, да и между разделенными веками целыми поколениями ученых. Работники науки помнят славных предшественников, «на плечах» которых они стоят. Словом, мир науки, как он существует с незапамятных времен, больше соответствует идеалу единого человечества, чем мир обыденной жизни, длинной череды поколений обывателей. В.И. Вернадский действительно полагал, что на основе освоения и творчества ценностей науки возникает более тесное, непосредственное, живое, гуманное отношение между людьми, органическая общественная целостность. Образ универсального научного сообщества, проступающий в его статьях о высшей школе, чем-то походит на образ и понятие «симфонической личности», разработанные позже евразийцами (к числу которых, кстати сказать, принадлежал сын ученого – Г.В. Вернадский).
Установка на то, чтобы рассматривать научную мысль не в качестве абстракции и инструмента, но как ипостась личности, характерна для учения В.И. Вернадского. Отрывать научное знание от личности его производящей воистину значит противоречить духу учения о ноосфере. Не будет большой натяжкой сказать, что для Вернадского мысль – это мыслящая личность. Но ведь точно так же для него и жизнь – это живое вещество. Строго говоря, он не считал понятие «жизнь» вполне научным. Для него исходным пунктом в размышлениях об эволюциях биосферы (увенчивающихся ее переходом в ноосферу) выступает именно «живое вещество». Нет такой субстанции, как «жизнь», а есть реальное единое «живое вещество», захватывающее в свое владение верхний слой земной коры и прилегающий слой атмосферы. «Он ввел в науку интегральное понятие о “живом веществе” и стал называть биосферой область существования на земле живого вещества» [7, с. 533].
Биосфера с необходимостью переходит в ноосферу, – доказывал В.И. Вернадский. Но что собою представляет последняя? Сегодня чаще всего ноосферу определяют как биосферу Земли, измененную научной мыслью и организованным трудом и преобразованную для удовлетворения всех потребностей численно растущего человечества [там же, с. 536]. Это определение многое объясняет, но не все. Оно говорит о том, что в одно прекрасное время существование биосферы, ее разнообразные процессы начнут подчиняться законам, установленным для них научным разумом – с пользой для человека. Можно только приветствовать такую перспективу, однако тут остается неясным вопрос: а в каком отношении находится изначально сам разум к действительности, методично покоряемой им? Данное определение ничего не сообщает об этом. Оно допускает взгляд на науку, разум как на внешнюю к биосфере силу. А между тем вся соль учения Вернадского – в положении, что наука вырастает из самой биосферы, что она есть высший этап развития биосферы («наука есть геологическое явление», – часто повторяет ученый). Огрубляя и не вдаваясь в подробности, можно сказать, что ноосфера – это биосфера, ставшая мыс- лящей, сознательной. То есть это область существования на Земле «живого вещества», в процессе развития пришедшего к себе самому, к равенству себе, к своей норме благодаря такому своему эволюционному приобретению, как свойство мышления, научный разум.
«Живое вещество» как разумное… Но как это может быть? Здесь нет никакой мистики. Конечно, Вернадский не то имел в виду, что на этапе «ноосферы» начнут мыслить леса, почвы, природные ландшафты и атмосферные явления. Реальным мыслящим телом останется все тот же живой человек, обладающий нервной системой и мозгом. Однако общественный субъект научного мышления будет уже другой, несравнимый с наличным в данное время социумом. Прообразом этой будущей идеальной мыслящей организации, по логике Вернадского, можно считать университет (университетскую корпорацию). В стенах университета дух научного познания преобразил человеческие отношения. Причем, гармоничные, идеальные с точки зрения производительного труда и творчества отношения воцарились не только между людьми, но даже между людьми и вещественными средствами и предметами их научной деятельности. В последнем случае речь идет о том, что наука не просто творит из пассивного материала природы новые формы, а открывает (в тенденции хотя бы) формы, совершенные с точки зрения «творческой эволюции» самой природы, биосферы. В мире научной деятельности, в сообществе ученых достигнута более высокая степень единства духа и материи, чем в окружающем социальном пространстве. Если бы еще и в этой внешней области реальности, в остальной (и неизмеримо более широкой) части общества установились такие же ладные отношения человека к человеку и человека к вещественной и природной среде его обитания, то это и была бы готовая ноосфера. «Мыслящее вещество» стало бы вполне разумным.
Но что же мешает достигнутой университетским сообществом благодати распространиться на все общество? Во всем виноваты общественные порядки? Косная традиция и реакционная политика выстроили глухой забор вокруг свободной территории разума, чтобы не допустить проникновения его вдохнов- ляющего примера в жизнь широких масс? Дело обстоит не так просто. Определенные препятствия для соединения демократического образца с народной почвой обнаруживаются и по другую сторону «железного занавеса», если таковой вообще существует. Университетская автономия имеет свои собственные, обусловленные самой ее природой пределы, через которые ей переступить не дано. Это те же самые пределы, границы, которые позволяли университету во все времена сохранять свою независимость и самобытность, выдерживать, не поступаясь принципами, любой напор бюрократической «воли к власти». Но они же ограничивают и возможности влияния университетской демократии на реальный образ жизни общества.
Движение к ноосфере, чтобы быть успешным, должно опираться и на другие, кроме университетских, формы слияния науки с жизнью. Согласно выводу В.И. Вернадского, такие формы возникают впервые в конце XIX – начале XX в. в результате колоссального роста научного знания и приложения его в технике и общественной жизни. Этот подъем влияния науки на жизнь людей носит «взрывной», по терминологии ученого, то есть революционный характер. Научные открытия и технические инновации меняют всю обстановку существования людей на планете, а стало быть, и их самих.
Но можно ли считать эти изменения действительным продвижением к ноосфере? Добытые наукой знания и их технические «переложения» и раньше достаточно широко использовались людьми, проникали в их быт, выступали посредствующими звеньями в общении. Но это было научное знание в виде абстракций, приспособленных для утилитарного потребления. Оно не приближало людей к творчеству, не будило в них творческую личность. А «ноосферические» общественные отношения – это ведь, по смыслу всего учения Вернадского, отношения между личностями. Личность создает научное знание, и, в свою очередь, развитие научной мысли порождает в человеке личность. Человек-потребитель, даже если он овладел «техминимумом», к научному творчеству не причастен. А между тем тип подобного потребителя тиражируется в невиданном количестве, как результат вторжения симулякров научной мысли в обыденную жизнь. Организация биосферы нисколько не станет более разумной, если среди человеческого населения ее начнут задавать тон подобные «плоды просвещения». Может статься, что и наоборот, резко вырастет объем и уровень потребительского, рваческого отношения к ней самой, биосфере, природе, совокупному «живому веществу». Развитие «технического разума» обывателя стимулирует такое отношение. Но посредством активного потребительства биосферу в ноосферу не преобразуешь, так ее можно преобразовать лишь в пустыню. Ноосфера создается только творчеством.
В этом духе, кстати сказать, сегодня часто критикуют учение Вернадского о ноосфере. Например, В.А. Кутырев размышляет: «Мы живем во время, когда деятельность человечества преодолела границы биологической реальности и стала определяться достигнутой мощью разума. Однако в конце ХХ в. люди заговорили о выживании. Как же теперь относиться к сложившимся еще в начале века взглядам на ноосферу? Не следует ли пересмотреть их ввиду явного несоответствия надежд и результатов?» [4, с. 626]. Однако подобные критические стрелы в теорию Вернадского не достигают цели. Ученый вовсе не утверждал, что соединение научного ratio с духовной энергией масс будет протекать гладко, без противоречий. Он предвидел, а также имел уже возможность воочию наблюдать негативные последствия научно-технического прогресса как экологического, так и социально-психологического свойства. Но этот прогресс, становившийся ощутимой реальностью для миллионов и миллионов, в любом случае, как понимал ученый, создает великую, ранее небывалую, «глобальную», как говорят сегодня, проблему для человечества. Это проблема для всех без исключения. Такие реально всеобщие вопросы бытия как раз и вызывают к жизни личность, самостоятельную творческую индивидуальность в человеке – независимо от того, принадлежит оный к элите или к наиболее широким низам.
Конечно, пробуждение личностного отношения к роковой проблеме века само по себе не гарантирует того, что это отношение сразу станет правильным и научным. Здесь возможно всякое, в том числе и агрессивноотрицательное, «луддистское» отношение к достижениям «технического Эроса». Весьма широкий, массовый характер принимают и явления того же интенсивного потребительства, зачастую безжалостного к самой биосфере. Однако и в таких далеких от разума и морали формах активности тоже проявляет себя личность, не что иное. Возможны и другие формы негативного, превратного самоутверждения народившейся в большом количестве автономной индивидуальности. Всюду в мире наблюдается «развитие человеческой субъективности, имеющей свой прообраз в труде абстрактном, в единой человеческой стихии, пожирающей, вместо того, чтобы соединять живое» [5, с. 54]. Кого винить за это? Только диалектическую природу реального мира. Но выход все же есть, во всяком случае, возможен. Надежду в этой острой ситуации оставляет тот факт, что большинство людей все-таки не может удовлетвориться ни одной из превращенных форм личностной самореализации, и ищет другого пути для себя. И объективно, независимо от того, осознает это вполне отчетливо «избранное большинство» или пока еще нет, оно ищет путь к ноосфере, к подлинному единству свободных личностей на почве ценностей разума.
Помочь основной массе народа понять свои собственные потребности, волевые импульсы и устремления в данной ситуации мирового прогресса, сопровождаемого мировым же кризисом, должна и обязана интеллигенция. Но для этого и университет, alma mater российской и всей европейской интеллигенции, должен претерпеть определенные изменения, перестройку, чтобы отвечать духу времени. Система высшего образования по природе своей доступна идее реформирования. Случались и ранее в ее истории революционные эпохи. В сущности, свое «наукоучение» В.И. Вернадский понимал как опыт самосознания науки и высшей школы на этапе величайшего для них и для всего общества революционного перелома. Как раз этот «великий перелом», наделивший научный разум невиданными ранее креативными возможностями, он и называл эпохой перехода биосферы в ноосферу.
Уже в начале прошлого столетия великий ученый и организатор науки писал: «Со- временная форма высшего образования, уходящая своими корнями в глубь средневековья, по существу, однако, является орудием нового времени. Старые основы ее совершенно скрыты новым содержанием» [2, с. 270]. Начало века совпало с периодом энергичного переустройства, расширения сферы деятельности высшей школы, создания новых ее форм, углубления и коренной переработки традиционных ее проявлений. В.И. Вернадский указывает на конкретные явления времени, сыгравшие особую роль в этих изменениях. На первое место он здесь ставит, естественно, огромный рост научного знания и приложения его в технике, бытовой сфере и общественно-политической практике. Другой важной чертой времени, сказавшейся на облике высшей школы, явилась демократизация жизни, ее большая гуманность, упрочение в общественной и государственной жизни демократических норм и принципов. Наконец, как считал В.И. Вернадский, сильный импульс к преобразованиям в строе высшей школы был сообщен феноменом распространения единой культуры на весь мир, возникшей доступностью европейской культуры для всех стран и народов, включая изолированные ранее культурные области – Японию, Китай, Индию, Индокитай, мусульманский Восток.
Вследствие усиления темпа научного развития необходимо создавать новые способы передачи молодежи достигнутых наукой результатов, указывает ученый. Необходимо вводить завоевания науки и техники в схемы, системы, предметы высшего образования. В.И. Вернадский настаивает на том, что процесс распространения знаний не должен отставать от научных исследований. Что же касается демократизации высшей школы, то эта тенденция, по мысли ученого, перестраивает всю ее сущность, позволяет ярко и свободно проявляться богато одаренным личностям в усвоении и преумножении знаний, а с другой стороны, повышает уровень организации коллективной научной работы преподавателей и студентов вуза. В.И. Вернадский также позитивно оценивает процессы «глобализации» и «интернационализации» теоретического разума, научной рациональности. Для него это прежде всего естественные процессы. «Ибо научное знание есть единственная фор- ма духовной культуры, общая для всего человечества, не зависящая в своей основе от исторического или географического места и времени. Только наука и тесно связанная с нею техника вызывают единство культуры для всего человечества, достигают того, к чему напрасно стремились различные формы религии и школы философии. Это является неизбежным следствием самой сущности науки – единой, в основе своих выводов для всех обязательной и непререкаемой» [2, с. 273]. Главным путем проникновения научной работы в общечеловеческую культуру является высшая школа. Для В.И. Вернадского очевидно, что и формы высшей школы каждой исторической эпохи должны быть одни и те же для всего человечества, отличаться в разных государствах и у разных народов только оттенками, не касающимися основных условий ее существования.
Оказался ли русский университет на высоте этих задач? В.И. Вернадский дает определенно утвердительный ответ на этот вопрос. Не получая от государственной власти должной материальной и административнополитической поддержки, университетская общественность успешно начала перестрой- ку. Это является примером для наших дней. Столетней давности анализ задач высшей школы, проделанный В.И. Вернадским, приобретает актуальное звучание сегодня.
Список литературы Вопросы философии образования публицистике В. И. Вернадского
- Аксенов, Г. П. Владимир Иванович Вернадский / Сост. Г. П. Аксенов // Вернадский В. И. Избранные труды. -М.: РОССПЭН, 2010. -744 с.
- Вернадский, В. И. Избранные труды / Сост. Аксенов Г.П. - М.: РОССПЭН, 2010. -744 с.
- Вернадский, В. И. О науке. Т. 1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль/В. И. Вернадский. -Дубна: Феникс, 1997. -576 с.
- Кутырев, В. А. Утопическое и реальное в учении о ноосфере/В. А. Кутырев//В. И. Вернадский: pro et contra. -СПб.: РХГИ, 2000. -872 с.
- Лифшиц, М. А. Проблема Достоевского/М. А. Лифшиц. -М.: Академический проект: Культура, 2013. -267 с.
- Соловьев, В. С. Сочинения: в 2 т./В. С. Соловьев. -М.: Мысль, 1990. -Т. 2. -822 с.
- Яншин, А. Л. Учение В. И. Вернадского о биосфере и переходе ее в ноосферу/А. Л. Яншин//В. И. Вернадский: pro et contra. -СПб.: РХГИ, 2000. -872 с.