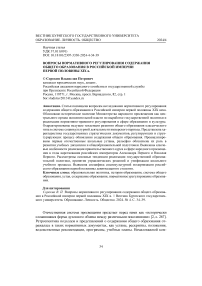Вопросы нормативного регулирования содержания общего образования в Российской империи первой половины XIX в
Автор: Сорокин В.П.
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам исследования нормативного регулирования содержания общего образования в Российской империи первой половины XIX века. Обосновано историческое значение Министерства народного просвещения как центрального органа исполнительной власти по выработке государственной политики и реализации нормативно-правового регулирования в сфере образования и культуры. Охарактеризованы ведущие тенденции развития общего образования классического типа в системе социокультурной деятельности имперского периода. Представлена характеристика государственных стратегических документов, регулирующих и структурирующих процесс обновления содержания общего образования. Проанализированы первые отечественные школьные уставы, рельефно обозначена их роль в развитии учебных дисциплин и общеобразовательной подготовки. Выявлены ключевые особенности реализации правительственного курса в сфере народного просвещения в годы царствования российских императоров Александра Первого и Николая Первого. Рассмотрены основные тенденции реализации государственной образовательной политики, принятия управленческих решений и унификации школьного учебного процесса. Выявлена специфика социокультурной модернизации российского образования первой половины девятнадцатого столетия.
Образовательная политика, история образования, система общего образования, устав, содержание образования, нормативное урегулирование образования
Короткий адрес: https://sciup.org/148329946
IDR: 148329946 | УДК: 37.011(091) | DOI: 10.18101/2307-3330-2024-4-34-39
Текст научной статьи Вопросы нормативного регулирования содержания общего образования в Российской империи первой половины XIX в
Сорокин В. П. Вопросы нормативного регулирования содержания общего образования в Российской империи первой половины XIX в. // Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2024. № 4. С. 34‒39.
Отечественная система просвещения предстает перед нами как «исторически сложившаяся форма духовного обмена между различными поколениями» [2, с. 267]. Ретроспектива подходов и представлений о содержании общего образования отражалась в таких нормативных документах, как уставы, рескрипты, положения, ведомственные рекомендации, программы, учебные планы. Немаловажной ком- понентой системы образовательного законодательства в XIX в. были региональные и локальные нормативные акты. Они имели достаточно высокий правовой статус, поскольку утверждались Министерством народного просвещения.
Эпоха Просвещения так и не смогла справиться с решением главной реформаторской задачи — сформировать «целостную систему народного образования в России» [1, с. 87]. Соответственно перед государственными деятелями XIX в. возникла сущностная проблема по созданию современной для своего исторического периода структурно отлаженной системы общего образования и ее управляющей надстройки. С момента учреждения в 1802 г. императором Александром I Министерства народного просвещения царское правительство взяло курс на правовое регулирование и нормативную фиксацию оснований школьного строительства. Создание такого ведомства «было для России замечательным нововведением, богатым по своим важным и полезным последствиям» [9, с. 227]. Процесс взаимодействия государства и общества в не однородной по своему национальному и вероисповедному составу, политическому, культурному и историческому развитию стране был изначально масштабен и противоречив.
Царю Александру пришлось «усваивать теорию и практику приспособления всех проектов и мероприятий к интересам и настроениям господствующего общественного класса» [8, с. 171]. Для регулирования образовательного процесса помимо Министерства народного просвещения власть прибегала к помощи и содействию Святейшего Правительствующего синода, ведавшего духовными делами, и Министерства внутренних дел, осуществлявшего полицейский надзор за благонадежностью преподавательского состава и контингента обучающихся. В официальных правительственных документах XIX в. неоднократно подчеркивалось, что ведущим направлением в преподавании отдельных учебных предметов должно быть стремление педагогов к подготовке полезных и благонадежных для Отечества граждан.
В 1803 г. были приняты «Предварительные правила народного просвещения», где в главе «О распоряжении училищ по учебной части» была впервые обстоятельно сформулирована ценностно-нормативная модель содержания отечественного образования в учебных заведениях трех уровней, оказавшаяся чрезвычайно стабильной и обновлявшаяся на протяжении XIX в. крайне мало. В приходских училищах (первая ступень общего образования) предписывалось обучать чтению, письму, элементам арифметики и началам Закона Божия. В уездных училищах (вторая ступень) продолжался курс обучения, начатый в приходских учебных заведениях. Обучающиеся знакомились с грамматикой русского языка, краткими курсами географии и истории, первоначальными основами геометрии и естественных наук. Кроме базового минимума учебных знаний предусматривались ознакомительные курсы по иным общеобразовательным дисциплинам. В гимназиях (третья ступень) преподавались латинский, французский и немецкий языки; изящные науки; логика, основы математики и отдельные разделы физики. Также изучались краткая естественная история, всеобщая география и история, основания политической экономии и коммерции. Обучающиеся готовились к практической деятельности в сферах экономики, просвещения, науки и государственной службы. Для развития духовно-нравственных свойств личности введено преподавание Закона Божия и гражданских обязанностей, а для физического здоровья вводилась гимнастика.
Для реконструкции начального этапа становления образовательного законодательства следует упомянуть правовое регулирование деятельности специализированных учебных заведений, роль и место которых в то время были весьма значительны, так как в начале XIX в. общеобразовательных (классических) гимназий было еще относительно немного. Также были распространены профессиональные учебные заведения.
В 1805 г. масштабному реформированию подверглись губернские военные училища, в содержание образования которых по сравнению с гражданскими учебными заведениями были внесены определенные изменения практического характера. Так, учебный курс латинского языка заменялся курсом элементарных основ фортификации. Курсы были ориентированы на приоритетность учебных знаний двойного назначения: оптики для военного глазомера; фортификации, тактики, стратегии, расположения и возведения полевых лагерей; истории войн, крупнейших сражений и полководцев. Дополнительно к общеобразовательным и фортификационным предметам на третьем и четвертом годах обучения прибавлялись военное право, военная и политическая история, естественная история, для будущих инженеров — курс архитектуры, а для кавалеристов и артиллеристов — ветеринария.
Под контроль государства было взято обучение глухонемых, которые должны были изучать основы наук (до этого доступные только здоровым учащимся). Помимо общеобразовательных предметов предписывалось обучать лиц с особыми потребностями языку жестов, рисованию и основам общей живописи, знакомить с различными орудиями труда, механизмами и ремеслами.
В манифесте от 13 июля 1826 г. император Николай I указал на среднюю школу как на один из важнейших социокультурных институтов. Государственные документы того времени подробно регламентировали объем, структуру и состав преподаваемых учебных предметов, определяющих цензовый уровень образования для каждого сословия Российской империи. Уставы определяли единую государственную стратегию образования, обучающиеся вне зависимости от ступени образования получали достаточно полные учебные знания по основам наук. При этом была предусмотрена преемственность всех ступеней обучения. Подобного рода образовательная политика стала образцом при отборе и структурировании содержания общего образования на всю последующую историю отечественного образования дореволюционного периода.
В 1826 г. Министерство народного просвещения начинает важную и кропотливую деятельность по сверке и унификации уставов учебных заведений и определения в них единой структуры учебных предметов. Во исполнение данного решения был создан комитет для рассмотрения учебных пособий. Результатом его работы стало принятие нового Устава 8 декабря 1828 г. В «Уставе гимназий и училищ, уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов Санкт-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского» (1828 г.) устанавливалось, что «обучение не есть воспитание и даже вредно без возжелания нравственности, которой христианину вне церкви нигде найти не можно»1.
При структурно-организационных изменениях в содержании начального общего образования никаких нововведений не было. Однако гимназический учебный курс по сравнению с Уставом 1804 г. претерпел существенные изменения. Теперь гимназистам предстояло изучать Закон Божий, Священную и церковную историю, грамматику русского языка, словесность и логику; латинский, немецкий и французский языки, а в университетских гимназиях также и греческий; математику, географию и статистику; историю; физику, чистописание, черчение и рисование. Если гимназия находилась в регионе, где русский язык не был родным, то преподавался родной язык, при этом учащиеся освобождались от изучения немецкого или французского языков. Все изменения строго регламентировались и допускались только с разрешения попечителей учебных округов. Библиотеки гимназий комплектовались необходимыми учебно-методическими пособиями, сверх которых никакие иные издания образовательного назначения не допускались. Также Устав 1828 г. определял допустимые методы, формы и принципы преподавания общеобразовательных дисциплин.
Термин «учебный план» впервые встречается в законодательных актах 1820-х гг. В тот исторический период учебные планы представляли собой перечень подлежащих преподаванию учебных предметов с подробным изложением базового минимума знаний, которыми обучающийся должен был овладеть и сеткой учебных часов с распределением по классам. Попытки педагогов отойти от утвержденных государством учебных планов достаточно жестко пресекались2.
С 30-40-х гг. XIX в. наблюдается устойчивая тенденция по реализации попыток введения в учебные курсы гимназий и губернских училищ основ учебно-практических знаний, умений и навыков. Они были необходимы для развития торговли, промышленности, коммерции, сельского хозяйства на общегосударственном, региональном и местном (локальном) уровнях, что напрямую увязывалось с темпами и ведущими направлениями промышленного переворота в Российской империи. Со второй половины 50-х гг. XIX в. наступил период формирования модернизационных тенденций и «направлений, которые вели к концептуальным изменениям» [3, с. 14].
Постепенно изменения коснулись и женского образования. До конца 50-х гг. XIX в. девушки из привилегированных семейств обучались в основном в специализированных учреждениях замкнутого педагогического цикла — пансионах. Начиная с Эпохи великих реформ царствования Александра II произошла определенная либерализация женского образования [7]. С появлением «моды» на женскую эмансипацию, пришедшую из Западной Европы, стали создаваться женские учебные заведения открытого надсословного типа. Дворянские, купеческие, мещанские и крестьянские девушки согласно нормам тогдашнего отечественного образовательного законодательства должны были готовиться к семейной жизни. Для этого они получали необходимые знания по чтению, письму, счету и катехизическому знанию, а также разнообразному домашнему женскому рукоделию.
Будучи огромной многонациональной и поликонфессиональной страной, Российская империя имела в своей государственной образовательной политике еще одну важнейшую специфическую черту — организацию обучения и воспитания инородцев. С 60-х гг. XIX в. начинается подлинный подъем инородческой школы, этнокультурного движения и национально-региональной педагогической мысли. Модернизация в Эпоху великих реформ становится «многомерной и глубокой, несмотря на яростное сопротивление традиции и колебания в политике правительства» [5, с. 56].
Таким образом, власть на всем протяжении XIX в. делала все, чтобы реализовать важнейшую общегосударственную задачу: «сравнять всех граждан в образовании, благосостоянии и правах» [4, с. 78]. В первой половине девятнадцатого столетия был заложен прочный фундамент классической отечественной общеобразовательной школы. Сформировались новаторские подходы к правовому регулированию отбора, обновления и структурирования содержания общего образования [6]. На перспективных научно-педагогических разработках и управленческих решениях того исторического периода базировались все последующие стратегические документы и модернизационные проекты дореволюционной поры.
Список литературы Вопросы нормативного регулирования содержания общего образования в Российской империи первой половины XIX в
- Днепров Э. Д. Российское образование в XIX - начале XX века. Т. 1. Политическая история российского образования. Москва: Мариос, 2011. 648 с. Текст: непосредственный.
- Запесоцкий А. С. Образование: философия, культурология, политика. Москва: Наука, 2002. 456 с. Текст: непосредственный. EDN: TLEXOX
- Ильин А. А. Революция и реформа: соотношение понятий в первые годы великих реформ // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. 2, № 2. С. 13-32. Текст: непосредственный. EDN: VKPMOJ
- Ковалевский П. И. Русский национализм и национальное воспитание в России. Москва: Книжный мир, 2006. 260 с. Текст: непосредственный.
- Миронов Б. Н. Модернизация имперская и советская // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2018. Т. 63. Вып. 1. С. 54-82. Текст: непосредственный. EDN: TIVHEZ
- Овчинников А. В. Политико-правовой процесс в отечественном образовании 1801-1917 гг.: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук: 13.00.01. Москва: ИТИП РАО, 2010. 336 с. Текст: непосредственный. EDN: QEZLPX
- Половецкий С. Д., Овчинников А. В., Милованов К. Ю. Реализация идеологии Великих реформ в народном просвещении России // Вестник Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 2021. № 2. С. 7-17. Текст: непосредственный. EDN: HBNNQQ
- Пресняков А. Е. Российские самодержцы. Москва: Книга, 1990. 464 с. Текст: непосредственный.
- Чарторижский А. Мемуары. Москва: Терра-Книжный клуб, 1998. 304 с. Текст: непосредственный.