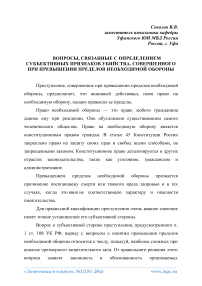Вопросы, связанные с определением субъективных признаков убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны
Автор: Соколов В.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Актуальные вопросы политики и права
Статья в выпуске: 12-3 (31), 2016 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140117774
IDR: 140117774
Текст статьи Вопросы, связанные с определением субъективных признаков убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны
Преступление, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, предполагает, что виновный действовал, имея право на необходимую оборону, однако превысил ее пределы.
Право необходимой обороны — это право любого гражданина данное ему при рождении. Оно обусловлено существованием самого человеческого общества. Право на необходимую оборону является конституционным правом граждан. В статье 45 Конституции России закреплено право на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом. Конституционное право детализируется в других отраслях законодательства, таких как уголовное, гражданское и административное.
Превышением пределов необходимой обороны признается причинение посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью и в тех случаях, когда это явно не соответствовало характеру и опасности посягательства.
Для правильной квалификации преступления очень важное значение имеет точное установление его субъективной стороны.
Вопрос о субъективной стороне преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, наряду с вопросом о понятии превышения пределов необходимой обороны относится к числу, пожалуй, наиболее сложных при анализе чрезмерного защитительного акта. От правильного решения этого вопроса зависят законность и обоснованность принимаемых соответствующими органами решений по конкретным делам.
Субъективная сторона убийства при превышении пределов необходимой обороны характеризуется психическим отношением субъекта к своим действиям и наступившей в результате этих действий смерти потерпевшего.
Ключевым признаком, имеющим решающее значение для принятия правильного решения о квалификации деяния, является субъективная сторона.
Поэтому для констатации убийства при эксцессе обороны следует выяснить, имеется ли вина в действиях обороняющегося, и если имеется, то в какой форме – умышленной или неосторожной.
До принятия ныне действующего УК РФ в юридической литературе высказывались различные мнения касательно характера и содержания субъективной стороны преступлений, совершенных при превышении пределов необходимой обороны. Одни авторы считали, что такие преступления могут быть совершены только по неосторожностих[1]. Другая группа ученых отстаивала позицию, что превышение пределов необходимой обороны может быть как умышленным, так и неосторожным[2].
Введением в ст. 37 УК РФ положения «умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства» законодателем были сняты спорные вопросы о форме вины при превышении пределов необходимой обороны.
Следует отметить, что установить конкретный состав преступления против жизни при эксцессе обороны только на основании объективно явного несоответствия зашиты характеру и степени общественной опасности посягательства (способ действия обороняющегося, обстановка, время, интенсивность нападения и зашиты, соразмерность защищаемых интересов и тех интересов, которым причинен вред) невозможно.
Необходимо установить и доказать внутреннее психическое отношение лица к указанным объективным фактам.
Объективная сторона убийства при превышении пределов необходимой обороны заключается в умышленных действиях, не соответствующих характеру и степени общественной опасности посягательства, и причинении нападающему явно чрезмерного вреда, то есть вреда, заведомо не вызывавшегося необходимостью обороны, либо вреда, явно несоразмерного с опасностью совершенного посягательства.
Чрезмерность в этом случае – это объективная характеристика причиняемого нападающему вреда. Указание же на явность чрезмерности (то есть очевидности, заведомой ненужности причинения такого вреда) является свидетельством того, что чрезмерность вреда, как последствие внешнего поведения индивида, находит определенное отражение и в его сознании.
«Заведомость» или «явность» означают достоверное знание субъектом фактических обстоятельств, которые образуют объективную сторону конкретного преступления. Причиняя нападающему вред, заведомо не вызывающийся обстановкой или явно несоразмерный с опасностью посягательства, обороняющийся сознает как фактическую сторону деяния, так и его социальную значимость и, следовательно, совершает преступление умышленно. Если при этом учесть что «заведомость» характеризует лишь интеллектуальное отношение лица к объективным обстоятельствам преступления, то правомерно сделать вывод, что волевая сфера умысла может предполагать как желание чрезмерности вреда, так и сознательное допущение последнего. Иными словами умысел может быть как прямым, так и косвенным.
Причинение нападающему при отражении его общественно опасного посягательства вреда по неосторожности не может влечь уголовной ответственности ввиду отсутствия состава преступления, предусмотренного как ч.1 ст.108 УК, так и ч.1 ст.114 УК РФ, а с субъективной стороны превышение пределов необходимой обороны предполагает вину только в форме умысла (прямого или косвенного).
Действия обороняющегося при превышении пределов необходимой обороны обусловлены единой целью – защитить правоохранительные интересы. Добиваясь этой цели обороняющийся сознает, что превышает пределы необходимой обороны, предвидит реальную возможность наступления последствий в виде смерти.
Этот результат нежелателен для обороняющегося, так как он стремиться к достижению общественно полезной цели, но, избирая чрезмерные средства для ее достижения, сознательно допускает наступление названных последствий либо относится безразлично к возможности их наступления, что с точки зрения волевой сферы его психической деятельности фактически одно и тоже.
Поскольку ч. 2 ст. 37 УК РФ определяет несоответствие обороны характеру и степени общественной опасности посягательства через признак «явное», следует сделать вывод, что при превышении пределов необходимой обороны лицо в общих чертах осознает выход за пределы необходимости, хотя точная степень этого несоответствия вряд ли может быть им точно определена в экстремальных условиях внезапности нападения и вызванного посягательством душевного волнения или стресса. Считать, что возможна уголовная ответственность, когда обороняющийся этого не осознавал, а только должен был и мог сознавать, было бы не правильно.
Преступление, явившееся результатом превышения пределов необходимой обороны, совершается с внезапно возникшим и, как правило, неопределенным умыслом. Виновный, сознавая, что своими действиями превышает границы допустимой защиты, в то же время предвидит их общественно опасные последствия в виде причинения не вызывавшегося в данных условиях необходимостью тяжкого вреда личности нападающего. Но в отличие от определенного умысла, когда виновный желает причинить потерпевшему точно определенный вред, при неопределенном умысле виновный желает или сознательно допускает причинить потерпевшему любой вред, не представляя себе точно его тяжесть. Поэтому квалификация действий лица, допустившего эксцесс обороны при неопределенном умысле определяется не направленностью умысла, а фактически наступившими общественно опасными последствиями.
Посягательство, при защите от которого имеет место превышение допустимых пределов обороны, как правило, оказывается неожиданным для обороняющегося. Умысел при совершении такого преступления является, как отмечалось, внезапно возникшим. При этом он не перестает быть таковым и в случаях, когда обороняющийся осуществляет какие-то приготовительные действия для зашиты, по той же причине, что подготовка осуществлялась к обороне, а не к превышению ее пределов. Обороняющийся до начала отражения и пресечения посягательства не помышляет причинить нападающему чрезмерный вред.
Так же при рассмотрении субъективной стороны превышения пределов необходимой обороны требует затронуть еще одну важную проблему. Преступления, совершенные в состоянии аффекта (ст. ст. 107, 113 УК РФ), имеют ряд общих признаков с преступлениями, совершенными при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ). Общими для них являются объект преступления, действие, выражающееся в насилии, вина, субъект преступления. Сходной является и обстановка совершения преступления, а точнее, его повод, которым в обоих случаях выступает насилие, оскорбление и другие противоправные деяния. Наличие большого числа сходных признаков этих преступлений на практике ведет иногда к их смешению. Однако для преступлений, предусмотренных ст. ст. 107, 113 УК РФ, обязательным признаком состава, относящимся к их субъективной стороне, является аффект. Психология различает несколько видов проявления аффекта: радость, печаль, отчаяние, гнев, ненависть, страх, ужас. Для названного преступления характерны гнев, ненависть и отчаяние. Они вызываются индивидуально - неприятными поводами и являются агрессивной реакцией на них.
По мнению Р.М. Юсупова, в состоянии «аффекта страха» может совершаться только необходимая оборона[3]. Если обороняющийся преувеличил опасность, что обусловило возникновение аффекта и последовавшее объективное превышение пределов необходимой обороны, то это не меняет правовой оценки обороны. Ведь превышение пределов необходимой обороны - действие умышленное. При ошибке в оценке посягательства, преувеличении под влиянием «аффекта страха» его опасности ответные действия не являются умышленными. Более того, они просто невиновные, ибо в таком состоянии обороняющийся не сознавал и не мог сознавать реальную степень опасности посягательства.
Р.М. Юсупов утверждает, что для преступлений, предусмотренных ст. ст. 107, 113 УК РФ, обязательным признаком состава являются аффекты гнева, ненависти, отчаяния. В субъективной стороне преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ, эти аффекты отсутствуют. Отличают названные группы преступлений также мотивы и цель. В преступлениях, предусмотренных ст. ст. 107, 113 УК РФ, аффект занимает господствующее положение в мотиве. Иные мотив и цель действий в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК РФ. Мотивом в них является потребность в устранении созданной посягательством угрозы общественным отношениям общественно опасным способом.
Также следует отграничивать необходимую оборону и причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, от иных обстоятельств, исключающих преступность деяния, предусмотренных в гл. 8 УК РФ.
Прежде всего при необходимой обороне или задержании лица, совершившего преступление, недопустимо причинение вреда третьим лицам. В случае, когда при защите от общественно опасного посягательства или при задержании лица, совершившего преступление, причиняется вред охраняемым уголовным законом интересам третьих лиц, содеянное в зависимости от конкретных обстоятельств может оцениваться как правомерное причинение вреда по основаниям, предусмотренным ст. ст. 39, 41 или 42 УК РФ, как невиновное причинение вреда либо как умышленное или неосторожное преступление [4].
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, а равно при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, подлежит квалификации по соответствующей части ст. 108 УК РФ и в тех случаях, когда оно сопряжено с обстоятельствами, предусмотренными в п.п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В частности, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, должно быть квалифицировано только по ст. 108 УК РФ и тогда, когда оно совершено при обстоятельствах, с которыми обычно связано представление об особой жестокости (например, убийство в присутствии близких потерпевшему лиц). Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны несколькими лицами, совместно защищавшимися от общественно опасного посягательства, следует квалифицировать по ст. 108 УК РФ.
Согласно положениям ст. ст. 37 и 38 УК РФ содержащиеся в них предписания распространяются на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые в связи с исполнением своих служебных обязанностей могут принимать участие в пресечении общественно опасных посягательств или в задержании лица, совершившего преступление. При этом если в результате превышения пределов необходимой обороны или мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, указанные лица совершат убийство или умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, содеянное ими при наличии соответствующих признаков подлежит квалификации по ст. 108 или по ст. 114 УК РФ.
Сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и иные лица, которым законодательством разрешено применение оружия, специальных средств, боевой и специальной техники или физической силы для исполнения возложенных на них федеральными законами обязанностей, не подлежат уголовной ответственности за причиненный вред, если они действовали в соответствии с требованиями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых актов, предусматривающих основания и порядок применения оружия, специальных средств, боевой и специальной техники или физической силы. При этом не может признаваться преступлением причинение вреда таким лицом, применившим оружие, специальные средства, боевую и специальную технику или физическую силу с нарушением установленного действующим законодательством порядка их применения, если исходя из конкретной обстановки промедление в применении указанных предметов создавало непосредственную опасность для жизни людей или могло повлечь за собой иные тяжкие последствия (экологическую катастрофу, совершение диверсии и т.п.).
Список литературы Вопросы, связанные с определением субъективных признаков убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны
- Иванов В.И. Рецензия на книгу И.С. Тишкевича «Условия и пределы необходимой обороны»//Советская юстиция. 1970. № 5. С. 31.
- Аниянц М.К. Ответственность за преступления против жизни по действующему законодательству союзных республик. М., 1964. С. 172.
- Юсупов Р.М. Соотношение аффекта и превышения пределов необходимой обороны//Российская юстиция. 1999. № 5. С. 47.
- Никуленко А.В. Причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние. Автореф. дисс.. канд. юрид. наук /А.В. Никуленко. -Калининград, 2011. -С. 13.