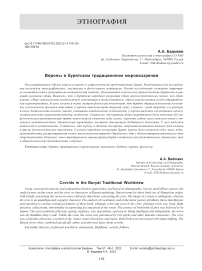Вороны в бурятском традиционном мировоззрении
Автор: Бадмаев А.А.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются образы ворона и вороны в мифологических представлениях бурят. Источниками для исследования послужили этнографические, лексические и фольклорные материалы. Основу исследования составили структурно-семиотический и сравнительно-исторический методы. Доказывается монгольское происхождение бурятских номинаций указанных птиц. Выявлено, что в бурятских народных воззрениях образ ворона представлен полнее, чем образ вороны. Образ ворона имеет неоднозначную коннотацию и полисемантичен; образу вороны дается сугубо отрицательная характеристика. Анализ лексики и малых жанров фольклора показывает, что буряты обращали внимание на внешние зоологические признаки этих птиц: у вороны отмечали цвет оперения, крик; у ворона - цвет оперения, его размеры и клюв, длительность полета; также учитывали поведенческие особенности: у ворона выделяли коллективное начало, эмоциональность выражения радости, жадность. Считалось, что природа обоих стервятников была нечистая. По мифологическим представлениям бурят, ворон являлся символом неба, весны, зоркости, войны, имел мужское начало, отличался мстительностью, хтоническим характером, выступал помощником буддийского божества. У него выделяли интеллект и независимость. Считалось, что ворону, в отличие от вороны, покровительствовали темные духи-хозяева и другие демонологические персонажи. Согласно народным воззрениям бурят, ворона была символом неба, зимы, воды, кровожадности, распространения молвы, имела женскую природу. Определено, что с обеими птицами связывалась идея оборотничества. Показано, что в традиционном мировоззрении бурят сочетались как отличительные этнические, так и общечеловеческие представления о воронах.
Буряты, традиционное мировоззрение, шаманизм, буддизм, вороны, фольклор
Короткий адрес: https://sciup.org/145146937
IDR: 145146937 | УДК: 398'54 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.119-125
Текст научной статьи Вороны в бурятском традиционном мировоззрении
Среди орнитоморфных образов, получивших широкое распространение в мифологии народов мира, особое место занимают образы воронов. Ворон и ворона наделялись большим кругом функций, связывались с разными сферами обитания и небесными светилами, имели глубокую семантику [Мифы…, 1980, с. 202, 839]. Наиболее ярко представлен образ ворона. У некоторых этнических групп (у части палеоазиатских народов Северо-Восточной Азии и североамериканских индейцев) эта птица почиталась как тотем, выступала в роли демиурга или культурного героя.
Оба вида врановых птиц входят в галерею зооморфных образов бурят, однако в бурятской этнографии их образы не получили специального освещения. Цель статьи – представить результаты изучения в сравнительном плане образов ворона и вороны в традиционных представлениях бурят в контексте определения их символики и семантики.
О происхождении бурятских названий ворона и вороны
В дикой фауне Байкальского региона представлены вороны, прежде всего ворон Corvus corax subcorax . Кроме него на этой территории обитает черная ворона Corvus corone , также относящаяся к данному биологическому роду. В бурятской лексике ворона обозначают как хирээ , а ворону – турлааг .
Прежде чем приступить к раскрытию темы, попробуем выяснить происхождение бурятских названий врановых. У монголов ворон именуется хэрээ ( н ) [Большой академический монгольско-русский словарь…, 2001–2002, с. 1474], калмыки называют его кирэ ‘ворон’ [Русско-калмыцкий словарь, 1964, с. 80], хамниганы – кирээ [Хамниганско-русский словарь, 2015, с. 173]. Приведенные этнические номинации птицы находят истоки в языке средневековых монголов: ср. qong keri’ē ‘ворон’ [Поппе, 1938, с. 302], причем полное тождество этому названию фиксируется в речи современных хорчитов: хон хэрээ ‘ворон’ [Большой академический монгольско-русский словарь…, 2001–2002, с. 1474]. Словосочетание хон хирээ встречается в шаманской поэзии бурят. В языке слова хон имеет два основных значения – «звонко (звучать)» и «мертвый» [Буряад-ород толи…, 2010, т. II, с. 441]. Если первое значение вполне может указывать на специфичный крик этой птицы, то второе – свидетельствовать о восприятии бурятами ворона как представителя потустороннего мира.
Следует отметить, что у средневековых монголов ворону называли, как и ворона: keri’ē , keriyē ‘ворона’
[Поппе, 1938, с. 21]. Но в современных монгольских языках эта традиция была утрачена; для обозначения вороны у бурят используется слово турлаг , у калмыков – турлаг , шаазhа [Калмыцко-русский словарь, 1977, с. 518], у хамниган – турлааки , турлааг [Хамни-ганско-русский словарь, 2015, с. 280]. В монгольском языке созвучное этим наименованиям слово турли-ах имеет другое значение – галка [Большой академи-че ский монгольско-русский словарь…, 2001–2002, с. 992], а этнические варианты упомянутой выше калмыцкой номинации шаазhа в монгольских языках, как правило, определяют сороку.
В монгольском словаре Мукаддимат Ал-Адаба приводится еще одно название ворона – quzyun [Поппе, 1938, с. 302]. Оно имеет, скорее всего, тюркские корни и в языках современных монгольских народов не встречается. Действительно, у древних тюрков было слово quzyun ‘ворон’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 475], которое теперь сохраняется в лексике некоторых тюркских этнических групп: башкир. ҡоҙғон , кирг. кузгун , турецк. kuzgun , хакас. хусхун . Между тем некоторые тюркские народы пользуются другими обозначениями ворона: алтайцы – карган , казахи – қарға , киргизы – карга , чуваши – ҫӑхан , якуты – суор . Показательно, что в древнетюркском глоссарии словом qarya [Там же, с. 426] (производными от которого являются этнические вариации слова карга ) определяют представителей близких биологических видов – ворона и вороны. Заметим, что во втором значении оно употребляется частью современных тюрков: узбек. qarg’a ‘ворона’; хакас. харға ‘ворона’.
Итак, бурятские номинации ворона и вороны однозначно имеют монгольское происхождение.
Характеристика ворона и вороны на основе данных лексики и малых жанров фольклора
Согласно лексике и фольклору бурят, образ ворона несет черты, типичные для него в дикой природе. Прежде всего буряты обращали внимание на его внешние зоологические характеристики. Его темное, иссиня-черное (в бурятском языке для маркировки такого цвета используется словосочетание хаб хара ‘черный-пречерный’) оперение нашло отражение в слово сочетании: хара хирээ ‘черный ворон’. Буряты, как и другие тюрко-монгольские народы, относились с предубеждением к птицам с черной окраской перьев: последние рассматривались как посланцы Нижнего мира. Кроме того, учитывались размеры ворона (он один из самых крупных представителей отряда воробьинообразных): тураг хирээ шувуун букв. ‘огромная птица ворон, ворон’.
В малых жанрах фольклора бурят подчеркивались такие специфические черты вороны, как крик, цвет оперения:
Хаар-хаар дуутай ,
Хара торгон дэгэлтэй [Оньhон yгэнyyд…, 1956, с. 22].
С песней «Кар-кар»,
С халатом из черного шелка (ворона) (перевод наш. – А.Б. ).
В загадке о вороне особо выделяли не только его черное оперение, но и крепость большого клюва:
Хара торгон дэгэлээ
Хайшалаагyй yмдэбэб ,
Хара булад hyхэеэ
Хатаалгаагyй барибаб [Там же, с. 22].
Черный шелковый халат
Необрезанный я надел,
Черный стальной топор
Незакаленный я взял (ворон) (перевод наш. – А.Б. ).
Характерная для ворона, как и для других хищных птиц, длительность полета у людей ассоциировалась со способностью к очень дальним перелетам: Хирээ-гэйшье хyрэхэгyй газар ‘Куда ворон костей не заносил’ [Там же]. Тот же смысл заключен в существующем у монголов выражении, в котором это пернатое называется тураг шувуу ‘ большой птицей’: тураг шувуу нисч хүрэхгүй, туурайт морь давхиж хүрэхгүй газар цэцэн ‘место, до которого ни ворон не долетит, ни конь добрый не доскачет’ [Большой академический монгольско-русский словарь…, 2001–2002, с. 992].
Из поведенческих особенностей буряты отмечали проявление у ворона коллективного начала, хотя, как известно, эти птицы лишь изредка сбиваются в стаи: Хирээ хирээгэй нюдэ тоншохогyй ‘ворон ворону глаз не выклюет’ [Буряад-ород толи…, 2010, т. II, с. 427]. Нельзя не указать на то, что пословица имеет негативную тональность: ее обычно используют при характеристике людей с общими дурными наклонностями. Вероятно, она была заимствована бурятами через русских из европейской культуры. Напомню, что данное изречение принадлежит древним римлянам: Cornix cornici nunquam confodit oculum ‘Ворон ворону глаз не выклюет’.
У бурят с образами ворона и вороны соотносили проявление человеком некоторых чувств и порочных наклонностей. Так, при выказывании кем-либо большой радости обычно говорили: Баярлаhан хирээ бархирба ‘Закаркал обрадованный ворон’. Вероятно, такая поговорка сложилась в результате наблюдений за эмоциональным поведением данной птицы.
В представлениях бурят образ ворона ассоциируется с жадностью; осуждая в человеке такую дурную черту, народ говорил: Хэнтэй хyн хирээ мэтэ ‘жадный подобен ворону’.
Буряты относили ворона и ворону к нечистым птицам. По данным источника XVIII в., существовал запрет на употребление их мяса в пищу [Миллер, 2009, с. 256]: он, вероятно, учитывал всеядность пернатых, питавшихся, в частности, падалью.
Нельзя не отметить цветовую символику, которая согласуется с окраской этих врановых. Так, выражение Хирээ хара ‘ворон черный’ подразумевает, что буряты считали ворона поганой птицей.
Не только поедание вороном падали, но и привычка выклевывать глаза у живого, но ослабленного домашнего скота, особенно во время дзута (бескормицы), породили представления о нечистой природе.
Вероятно, с этим стыкуется народное представление о чудесных целебных свойствах вороньих слез при лечении глазных заболеваний: «[ворон] почитается как врач глазных болезней и слепоты у людей. Буряты часто ловят ворона и делают ему уколы в глаз, как бы заставляя его плакать; вытекающей жидкостью помазывают глаза или впускают ее каплями. Они уверяют, что слепой от этого прозревает» [Смолев, 1901, с. 107]. По народным воззрениям бурят, этот стервятник выступал символом зоркости. Такой предрассудок базировался, вероятно, на суждении, что глаза человека и животного якобы являются средоточением жизненной энергии: поедая глаз своей жертвы, птица получает ее; в свою очередь, человек через слезы ворона принимает эту энергию и вылечивается от слепоты.
В лексике народной ботаники с черными и блестящими вороньими глазами ассоциировались зрелые плоды спаржи даурской Asparagus davuricus Fisch ex Link: это лечебное растение, занесенное в Красную книгу, буряты называют Хирээ нюдэн ‘Вороний глаз’ [Буряад-ород толи…, 2010, т. II, с. 427], а монголы – Хэрээний нyд ‘бот. спаржа даурская, вороний глаз’ [Большой академический монгольско-русский словарь…, 2001–2002, с. 1474].
Отрицательное отношение к ворону (он выступает как некий предвестник напасти) прослеживается, в частности, в следующей поговорке:
Боохойн урда хирээ ,
Бороогой урда халхин [Оньhон yгэнyyд…, 1956, с. 13].
Перед [появлением] вши [бывает] ворон,
Перед дождем [бывает] ветер (перевод наш. – А.Б. ).
В традиционных воззрениях бурят ворона является символом природных ритмов, конкретно зимы. По народным наблюдениям, после миграции перелетных птиц на юг она, наряду с сорокой, остается зимовать. Вот как это передается в загадке:
Хаанай yхэр
Хамагаараа (правильно – хамта гараа (замечание наше. – А.Б. ) бэлшэбэ ,
Харагшан эреэгшэн
Хоерынь газаа yлэбэ [Там же, с. 23].
Ханские коровы
Все вместе пошли пастись,
Черная и пестрая
Две остались (ворона и сорока) (перевод наш. – А.Б. ).
Любопытно, что выявленные выше у бурят характеристики ворона и вороны обнаруживают некоторые параллели в языке древних тюрков, что неслучайно, поскольку известно присутствие тюркского этнического компонента в составе их предков. Древние тюрки также ассоциировали ворону с холодным сезоном года: Bir qarya birla qis kelmas ‘С одной вороной зима не приходит’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 426]. Образ ворона имел у них негативную коннотацию. Это читается в оппозиции ворона и лебедя, в основе которой – цветовой контраст и, соответственно, разная символика этих птиц: Qara quzyun erdim quyu qildi čal ‘Я был черным вороном, он сделал [меня] белым лебедем’ [Там же, с. 475]. В связи с этим вспомним, что белый лебедь считается священной птицей для тюркских народов, их тотемным предком. Для древних тюрков одним из показателей принадлежности ворона к нечистым птицам был его резкий крик: Quzyun qoburya ulati javlaq belgülüg qorqinčiy ünlüg quslar ‘Вороны, совы и другие указывающие на дурные приметы птицы со страшными голосами’ [Там же].
О значимости этих представителей врановых в традиционном сознании бурят свидетельствуют, в частности, встречающиеся у бурят фамилии, производные от имен-прозвищ, – Хэрээ и Турлааг [Ми-трошкина, 1987, с. 82].
Образы воронов в мифологических воззрениях бурят
В отличие от вороны, которая считалась, как указывалось выше, знаком зимы, ворон воспринимался бурятами символом весны:
Сайбад гэхэдэ – убэл ,
Шалшад гэхэдэ – зун ,
Хара хирээгэй хаахирхада – хабар [Мэньелтэ мэргэн, 1984, с. 42].
[Когда] забелеет – зима,
[Когда] зашумит – лето,
Когда прокаркает ворон – весна… (перевод наш. – А.Б. ).
Ворона несла символику воды, т.к. рассматривалась предвестницей дождя. Согласно народной примете, если кричит черная ворона – будет дождь. Это представление имеет древние истоки; оно фиксируется у разных народов – вепсов [Винокурова, 2007, с. 104], чувашей [Чувашская мифология, 2018, с. 134], монголов и др. – и отсылает нас к творчеству древнеримского поэта Овидия, которому приписывается идея об этой птице как знаке дождя [de Vries, 1976, p. 275]. Примечательно, что в культуре славян образ ворона, знаменовавший ве сну, ассоциировался с весенним дождем, т.е. наделялся символикой воды.
В народных воззрениях бурят, как и некоторых других народов Евразии, например хакасов [Бурнаков, 2010а, с. 348], ворон приобщен к сакраментальному напитку – воде вечности ( мyнхyйн хара уhа ) [Бурчи-на, 2007, с. 229], аналогу живой и мертвой воды, упоминаемой, в частности, в сказках славян. С помощью этой живительной влаги культурный герой воскрешает погибшего богатыря.
В фольклоре бурят образ ворона неоднозначен. В бурятской сказке ворон – уважаемый персонаж, независимый, способный поступать наперекор власти. Полагали, что он «свободная птица, не платящая дани [царю птиц]» [Смолев, 1901, с. 107].
Ворон наделяется способностью говорить на человеческом языке и давать мудрые советы. Очевидно, это является отражением народного представления о данной птице как разумном существе; кстати, орнитологи считают ворона одной из самых умных птиц. Сказанное иллюстрирует следующий фрагмент сказания:
Подняла глаза Ногодой,
Посмотрела вверх сквозь дымник,
А отверстие закрыто
Птицы-ворона крылами.
Вот спустился ворон ниже
К славной девице Ногодой
И сказал по-человечьи,
Только резко, как отрезал… [Намсараев, 1990, с. 25].
Ворона же является символом распространения молвы, благодаря которой культурный герой узнает о скрытой причине недуга, местонахождении клада и др.
В традиционном мировоззрении бурят ворон, подобно любой летающей птице, выступает символом неба. Неслучайно в бурятской мифологии данному пернатому приписывали роль вестника высших сил, главным образом черных небожителей [Хангалов, 1960, с. 74]. Более того, в эпике бурят в ворона обращается один из небожителей Сом Саган нойон – посредник между противостоящими светлой и темной сторонами неба. Перед светлыми божествами он принимает облик черного ворона, а перед темными – белого.
В фольклоре образ этой птицы ассоциируется с помощником буддийских служителей и божеств. Так, в легенде о Ногоон Дари эхэ ‘Зеленая Тара-мать’ мудрый ворон помогает данной дакини и ее сыну, в награду получает долгую жизнь и острое зрение [Смо-лев, 1901, с. 105]. В другом сказании Зеленая Тара отблагодарила его, «наделив способностью видеть за шестьюдесятью реками кусок мяса величиной только с большой палец и летать, не боясь мороза, под небом выше облаков» [Потанин, 1883, с. 297]. Надо полагать, что этот мотив был заимствован бурятами через монголов из тибетского буддизма: у монголов Зеленая Тара-мать считалась небесной покровительницей, в их среде получило известность предание «Ногоон Дара эхийн тууж» («Повесть о Зеленой Таре»). Упомянутые выше зоологические особенности ворона (способность к высокому полету и острота зрения) подчеркиваются в разных эпических и сказочных произведениях бурят, а также многих евразийских народов.
Отрицательное отношение к ворону проявляется, например, в сказке «Злой ворон». Птица представлена как мстительное и хитрое существо, оно добивается своей цели, но не может пережить радости своего успеха [Бурятские народные сказки…, 2000, с. 95].
Образ ворона, как было отмечено, связывается с потусторонним миром. Он, как и желтая лисица, ассоциируется с наступившим хаосом. В бурятском фольклоре нарушение былого порядка передается следующим лексиче ским оборотом: «[только] черный ворон кричит и желтая лисица лает» [Хангалов, 1960, с. 274]. Буряты относили лисицу также к представителям подземного мира [Бадмаев, 2021б, с. 39]. Стоит указать, что в мифологии народов Евразии птицы-стервятники, в частности, ворон, предстают проводниками или посредниками между мирами (например, у индийцев [Krishna, 2010, p. 93]).
В бурятской эпике нашел отражение симбиоз ворона и волка, проявляющийся в природе в их совместной добыче мясной пищи. Ранее мы освещали этот вопрос и доказывали хтоническую природу волка [Бадмаев, 2021а, с. 97]. В мифологии многих других народов Евразии эти дикие животные считаются спутниками потустороннего мира. Добавим, что в традиционном сознании бурят, как и других тюрко-монгольских народов, ворон и волк связывались с кровожадностью и войной. Это показано в бурятских произведениях эпического плана. Так, кульминацией жестокой битвы в них является кровавое пиршество, устроенное врановыми птицами:
С новой силой закипает
Неоконченная битва,
Реки крови, горы мяса
Черных воронов питают,
Белобокие сороки
Тут же роются, стрекочут [Намсараев, 1990, с. 122].
В традиционном мировоззрении бурят ворон имеет эжина – мифического хозяина; из боязни прогневить его следует запрет убивать эту птицу. Как полагали, ворона такого покровительства не получила, но ее тоже старались не трогать. Верили, что эжинами ворона являются отдельные могущественные темные духи-хозяева. В шаманской поэзии таковым считается, например, Хозяин Черного коня, помощник повелителя Нижнего мира – Ажирай-бyхэ. Его сыном якобы является черный ворон, а дочерью – желтый [Ханга-лов, 1958, с. 360]. В природе желтый ворон, конечно, не встречается. В данном случае цвет оперения птицы выступает маркером пола: черный символизирует мужское начало, желтый – женское.
Представляется закономерным, что вороны названы детьми Ажирай-бyхэ. С этим мифическим персонажем у бурят связан древний воинский культ, а в бурятской эпике вороны зачастую оказываются воинами темных повелителей. Для примера, в эпосе «Гэсэр» дьявол Лобсоголдой так обращается к ним:
Вы, крылатые мои баторы,
Вы, мои четыре опоры,
Мои черные, зоркие вороны [1986, с. 172].
В мифопоэтике тюркских народов воин ассоциируется с вороном. Например, в алтайском эпосе «Ма-адай-кара» одно из порождений зла описывается так:
Как дым густой – его народ,
Как стая воронов – войска,
Зайсаны – точно волки злы [1979, с. 25].
В этом же произведении устного народного творчества летящие вороны подаются как грозное воинство:
А в посветлевших небесах,
Вселяя ужас, сея страх,
Черна, когтиста и мрачна
Орава воронов видна.
Клекочет, каркает она.
Грозою вороны летят,
Глазами землю бороздят,
Как ураган дыханье их
И крыльев колыханье их [Там же, с. 67].
В мифологических воззрениях алтайцев стрела, обычно олицетворяющая в традиционных культурах тюрко-монгольских народов мужское начало, уподобляется ворону:
И тучи стрел летят в нее,
Как бешеное воронье… [Алтайские героические сказания, 1983, с. 212].
Таким образом, можно утверждать, что у бурят и южносибирских тюрков было общее суждение о мужской природе образа ворона.
Согласно традиционным воззрениям бурят, эта хищная птица является соглядатаем нечистой силы. Например, в «Гэсэре» ворон в этом качестве исполняет волю земных отпрысков главы черных небожителей Атай Улаана [1986, с. 207]. В том же эпосе передается связь вороны с демонологическим персонажем, она служит ему грозным стражником или транспортом:
А вороны ее окружают,
Угрожают жене Гэсэра
Острием железных когтей.
Вдруг верхом на вороне серой,
Человек подлетает к ней [Там же, с. 67].
Еще одна ипостась ворона – вестник смерти и несчастья. Его крик считался зловещим. В народе говорили: «Когда ворон кричит… будет несчастье. Если к кому на дом садится ворон и кричит, это к худу» [Хангалов, 1960, с. 74]. Ту же примету связывали с вороной: «Каркает ворона – к несчастью» [Осокин, 1906, с. 223]. Необходимо заметить, что характеристика обоих видов врановых фиксируется у многих народов Евразии [Бурнаков, 2010а, с. 348; Гура, 1997, с. 537; Тресиддер, 1999, с. 50; Чувашская мифология, 2018, с. 134; и др.].
Буряты обращали внимание на разнообразие звуков, издаваемых вороном: «Если же [ворон] иным звуком прокричит, то обещает богатство» [Смолев, 1900, с. 28]. Связь этого образа и драгоценного клада, хранящегося в земле, свидетельствует о хтоническом характере данной птицы. Такая идея прослеживается в традиционных воззрениях некоторых других народов (славян [Гура, 1997, с. 532], хакасов [Бурнаков, 2010б, с. 120] и др.), что подчеркивает ее универсальность.
В бурятской шаманской поэтике ворон ассоциируется с мотивом оборотничества: считалось, что шаман может обращаться в него:
Серенький заяц – бег наш,
Серый волк – посыльный наш, Ворон хон – превращение наше, Орел хото – посланник наш! [Хангалов, 1958, с. 177].
Интере сно, что в бурятских легендах в ворону оборачивается женщина (по сути демонологический персонаж – муу шубуу ( н ) ‘плохая птица’), которая при жизни якобы была красивой и распутной, а после смерти приняла облик злой птицы-оборотня, убивающей одиноких путников-мужчин [Жамцарано, 2001, с. 104]. С учетом этого можно предполагать, что в традиционных представлениях бурят образ данного представителя врановых имел женское начало.
Предания, в которых ворон был представлен как мифический прародитель или покровитель какого-либо бурятского рода, отсутствуют. Это означает, что для бурят данная хищная птица не являлась тотемом.
В рамках монгольского суперэтноса вопрос о вороне как тотемном предке не так однозначен. Среди средневековых монголов, пожалуй, можно выделить племя кереитов (хэрээд ‘вороны’), этноним которых связан с этим пернатым. В конце XII – начале XIII в. они составляли отдельное ханство Ван-хана, в массе монголов того времени их властная элита выделялась принадлежностью к христианам несторианского толка. Косвенным свидетельством почитания ворона частью монголов Чингисхана является, вероятно, один из их боевых кличей (по традиции содержавший указание на тотемное животное) – «кху-кху», который напоминает крик этой птицы: при виде жертвы ворон издает громкое, гортанное «куух-куух». Здесь налицо прямая ассоциация нападающего конного воина-степняка с вороном, обнаружившим падаль. В этом контексте можно воспринимать обычай бурятских охотников, добывших медведя, имитировать крик ворона.
Изложенные выше факты можно объяснить тюркским происхождением как кереитов, так и некоторых других племен, включенных в состав монгольского государства Чингисхана. Дело в том, что ворон у некоторых этнических групп сибирских тюрков (якутов, телеутов и др.) почитался как первопредок [Бурнаков, 2010б, с. 116].
Заключение
Изучение бурятских народных представлений о воронах позволяет утверждать, что в них полнее представлен образ ворона, образ вороны носит фрагментарный характер. При этом образ ворона амбивалентен и многозначен, а образ вороны имеет однозначно негативную окраску.
Анализ лексики и малых жанров фольклора свидетельствует о том, что буряты обращали внимание на внешние зоологические признаки ворон: у вороны отмечали цвет оперения, крик; у ворона – цвет оперения, его размеры и клюв, длительность полета. Подмечали поведенческие особенности птиц: например, у ворона выделяли его коллективное начало, эмоциональное выражение им радости, жадность. Обоих стервятников буряты связывали с нечистой природой, поэтому не ели их мяса, воспринимали их черное оперение как признак принадлежности к Нижнему миру и др.
По мифологическим представлениям бурят, ворон являлся символом неба, весны, зоркости, войны, мужского начала, а также мстительности. Как вестник черных небожителей, их лазутчик, он был связан с подземным кладом, выступал помощником буддийского божества Зеленой Тары. У него выделяли интеллектуальные способности и независимость. В отличие от вороны, он якобы имел покровителей – темных духов-хозяев и других демонологических персонажей.
В традиционном мировоззрении бурят ворона была символом неба, зимы, воды, кровожадности, распространения молвы, имела женскую природу.
Обе хищные птицы связывались с идеей оборотни-чества, но природа этого считалась разной: полагали, что в ворону превращается демоническое существо, а в ворона оборачиваются шаманы некоторых родов во время своих мистических путешествий и схваток с другими шаманами.
Отдельные традиционные представления бурят об этих птицах находят параллели в культурах разных народов Евразии, что объясняется универсальностью данных воззрений и имевшими место этнокультурными контактами (например, с тюрками Сибири и Центральной Азии) в разные исторические периоды.
Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0001 «Этнокультурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII–XXI вв.».
Список литературы Вороны в бурятском традиционном мировоззрении
- Алтайские героические сказания / сказитель А. Калкин; пер. с алт. А. Плитченко. – М.: Современник, 1983. – 288 с.
- Бадмаев А.А. Образ и символика волка в мировоззрении и ритуале бурят // Томский журнал антропол. и лингвист. исслед. – 2021а. – Вып. 2 (32). – С. 93–101.
- Бадмаев А.А. Образ лисицы в традиционных мифологических воззрениях бурят // Гуманитарные науки в Сибири. – 2021б. – Т. 28, № 2. – С. 36–40.
- Большой академический монгольско-русский словарь: Монгол орос дэлгэрэнгүй их толь / под общ. ред. А. Лувсандэндэва и Ц. Цэдэндамба; отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев. – М.: Academia, 2001–2002. – 2198 с.
- Бурнаков В.А. Образ врановых птиц в мировоззрении хакасов // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2010а. – № 4 (30). – С. 346–362.
- Бурнаков В.А. Ворон в символах и поверьях хакасов // Культура как система в историческом контексте: опыт Западно-сибирских археолого-этнографических совещаний: мат-лы XV Междунар. Зап.-Сиб. археол.-этногр. конф. (Томск, 19–21 мая 2010 г.). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2010б. – С. 116–121.
- Бурчина Д.А. Героический эпос унгинских бурят: Указатель произведений и их вариантов. – Новосибирск: Наука, 2007. – 544 с.
- Буряад-ород толи. Бурятско-русский словарь / сост. К.М. Черемисов, Л.Д. Шагдаров: в 2 т. – Улан-Удэ: Республиканская типография, 2010. – Т. II: О – Я. – 708 с.
- Бурятские народные сказки: О животных. Бытовые / сост. Е.В. Баранникова, С.С. Бардаханова, В.Ш. Гунгаров, Б-Х.Б. Цыбикова. – Новосибирск: Наука, 2000. – 304 с. – (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 20).
- Древнетюркский словарь / отв. ред. В.М. Наделяев. – Л.: Наука, 1969. – 676 с.
- Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. – М.: Индрик, 1997. – 912 с.
- Гэсэр. Бурятский народный героический эпос. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1986. – Т. II. – 288 с.
- Винокурова И.Ю. Животные в традиционном мировоззрении вепсов (опыт реконструкции): дис. … д-ра ист. наук. – Петрозаводск, 2007. – 565 с.
- Жамцарано Ц.Ж. Путевые дневники 1903–1907 гг. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001. – 382 с.
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б.Д. Муниева. – М.: Рус. яз., 1977. – 768 с.
- Маадай-кара. Алтайский героический эпос / пер. А. Плитченко. – Горно-Алтайск: Кн. изд-во, 1979. – 271 с.
- Миллер Г.Ф. Описание сибирских народов. – М.: Памятники исторической мысли, 2009. – 456 с.
- Митрошкина А.Г. Бурятская антропонимия. – Новосибирск: Наука, 1987. – 222 с.
- Мифы народов мира: энцикл. / под ред. С.А. Токарева. – М.: Сов. энцикл., 1980. – 1147 с.
- Мэньелтэ мэргэн / отв. ред. Ц.-А. Дугар-Нимаев. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1984. – 138 с.
- Намсараев Х. Сагадай мэргэн: Эпическая поэма / пер. с бурят. В.Н. Мальми. – М.: Современник, 1990. – 128 с.
- Оньhон yгэнууд, таабаринууд / сост. Д. Мадасон. – Улан-Удэ: Бурят-монголой номой хэблэл, 1956. – 40 с.
- Осокин Г.М. На границе Монголии: Очерки и материалы к этнографии Юго-Западного Забайкалья. – СПб.: [Тип. А.С. Суворина], 1906. – 304 с.
- Поппе Н.Н. Монгольский словарь Мукаддимат Ал-Адаб. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. – 566 с. – (Тр. ИВ АН СССР; т. XIV).
- Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия, исполненного в 1876–1877 гг. по поручению Императорского Русского Географического Общества. – СПб.: [Тип. В. Киршбаума], 1883. – Вып. IV: Материалы этнографические. – 1026 с.
- Русско-калмыцкий словарь / под ред. И.К. Илишкина. – М.: Сов. энцикл., 1964. – 803 с.
- Смолев Я.С. Три табангутских рода селенгинских бурят: этнографический очерк. – М.: Тов-во тип. А.И. Мамонтова, 1900. – 58 с.
- Смолев Я.С. Бурятские легенды и сказки // Тр. КОПОИРГО. – 1901 [1902]. – Т. 4, вып. 2. – С. 95–107.
- Тресиддер Дж. Словарь символов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 448 с.
- Хамниганско-русский словарь / отв. ред. Д.Г. Дамдинов. – Иркутск: Оттиск, 2015. – 364 с.
- Хангалов М.Н. Собрание сочинений. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1958. – Т. 1. – 551 с.; 1960. – Т. 3. – 421 с.
- Чувашская мифология: этногр. справочник. – Чебоксары: Кн. изд-во, 2018. – 591 с.
- de Vries Ad. Dictionary of Symbols and Imagery. – Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1976. – 515 p.
- Krishna N. Sacred Animals of India. – New Delhi: Penguin Books India, 2010. – 274 р.