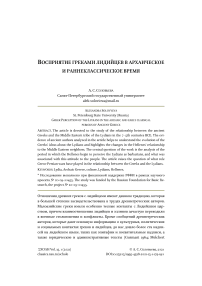Восприятие греками лидийцев в архаическое и раннеклассическое время
Автор: Соловьева Александра Сергеевна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.15, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению взаимоотношений древних греков и ближневосточного племени лидийцев в VII-V вв. до н. э. На основе свидетельств античных авторов анализируется эволюция представлений греков о лидийцах, а также изменение отношения эллинов к ближневосточным соседям. Центральным вопросом работы является анализ того, в какой период времени эллины начинают воспринимать лидийцев как варваров, и с чем было связано подобное отношение к данному народу. В статье поднимается вопрос о том, какую роль сыграли греко-персидские войны во взаимоотношениях греков и лидийцев.
Лидийское царство, архаическая греция, культура, лидийцы, эллины
Короткий адрес: https://sciup.org/147215900
IDR: 147215900
Текст научной статьи Восприятие греками лидийцев в архаическое и раннеклассическое время
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-09-00455. The study was funded by the Russian Foundation for Basic Research, the project № 20-09-00455.
Отношения древних греков с лидийцами имеют давнюю традицию, которая в большей степени засвидетельствована в трудах древнегреческих авторов. Малоазийские греки имели особенно тесные контакты с Лидийским царством, причем взаимоотношения лидийцев и эллинов зачастую переходили в военные столкновения и конфликты. Кроме сообщений древнегреческих авторов, которые дают основную информацию о культурных, политических и социальных контактах греков и лидийцев, до нас дошло более ста надписей на лидийском языке, таких как эпитафии и посвятительные надписи, а также юридические и административные тексты (Gusmani 1964; Melchert
ΣΧΟΛΗ Vol. 15. 1 (2021)
2008, 57). Эпиграфические материалы позволили ученым сделать ряд уточнений касательно особенностей лидийского языка и определить его как анатолийскую ветвь индоевропейских языков, а также усмотреть схожие лингвистические черты лидийского и греческого языков (Рицца 2013, 76). Большинство лидийских надписей было обнаружено во время раскопок древних Сард и датируется VII–V вв. до н. э. (Шеворошкин 1967, 11; Melchert 2008, 56). На основе лидийских эпиграфических материалов и в силу их краткого и узконаправленного содержания сложно определить отношение лидийцев к греческому населению, однако в древнегреческой и лидийской культурах можно найти множество общих черт и примеров взаимовлияний.1
В отечественной и зарубежной научной литературе уже не раз поднимался вопрос об образе «другого», о понятии «варвар» в древней Греции (Bacon 1961, Hall 1989, Рунг 2009). Большое количество исследований посвящено и тому, как греки воспринимали самих себя и когда стала развиваться идея об этническом и социокультурном превосходстве греков над варварами (Исааева 1990, Isaac 2004). В отечественной историографии изучались и отдельные сюжеты, связанные с данной темой, к примеру, восприятие греками фригийцев (Моисеева 1984, Андреева 2017), отношение эллинов к персам и мидийцам (Рунг 2005 и 2009). В данной статье мы хотели бы поднять вопрос о том, как строились взаимоотношения греков с лидийцами, и как менялось восприятие эллинами восточного народа в архаическое и раннеклассическое время.
Образ «чужого» в древнегреческой мысли оформлялся постепенно. Под термином «чужой» понимается представление греков не о своем превосходстве над варварами, а осознание ими отличия от других народов. По справедливому замечанию Э. Холл, ни один другой древний народ кроме греков не противопоставлял себя столь сильно другому из-за языковой разницы (Hall 1989, 9). Такое противопоставление могло возникнуть из-за специфики греческой культуры. Древнегреческая религия без труда могла воспринимать черты восточных культов, поэтому главным критерием, по которому греки определяли «чужого» в архаическую эпоху, прежде всего, становится язык. Лишь впоследствии древнегреческое общество провело четкую черту в определении «варвар», подразумевая под этим понятием чуждый грекам политический и общественный уклад жизни (Рунг 2005, 125–127).
Идея о превосходстве эллинов над другими народами в значительной степени оформилась благодаря греко-персидским войнам (Рунг 2005, 126). В период греко-персидского противостояния термин «варвар» стал стерео- типным понятием для противопоставления всего греческого «чужому». Причем если раннее наблюдается попарное противопоставление греков отдельным народам, т. е. грек – лидиец, грек – фригиец и т. д., то после греко-персидских войн появляется общее противопоставление всех греков и всех варваров (Исаева 1990, 60). Это может говорить нам о постепенном появлении у эллинов общегреческого самосознания и идеи «общегреческого единства» (Фролов 2001, 469). На основании поэм Гомера можно предположить, что в период Темных веков и ранней архаики «общегреческая идея» была развита не так сильно. Древнегреческий аэд описывает не греков, но ахейцев, аргивян, данайцев и другие греческие племена как отдельные группы (Hall 1989, 7), тем не менее, уже в эпоху Темных веков и архаики древних греков тесно связывала общая религия и мифология. В классический период ситуация меняется и эллины начинают воспринимать себя как единую этническую группу, противопоставленную варварам. Однако справедливо замечание С. Перлмана о том, что сами эллины все же никогда не признавали внутри своего общества его универсальность и подчиненность какому-либо одному полису, несмотря на прочные договоры и официальные соглашения между городами-государствами (Perlman 1976, 2).
С ростом самосознания эллинов меняется и их отношение к лидийцам. В поэмах Гомера упоминается ближневосточное племя мэонов (Μήονες). Это название образовано от имени малоазийской богини Мав, однако оно не засвидетельствовано в лидийских надписях, зато встречается в карийских (Шеворошкин 1967, 63). Это позволило В. В. Шеворошкину предположить, что мэоны могли быть либо лидийским племенем, либо соседями карийцев, племени, проживающего в Малой Азии (Шеворошкин 1967, 11). Геродот указывал на то, что «прежде лидийцы именовались мэонами» – πρότερον Μηίων καλεόµενος (Hdt, I, 7). Страбон, цитируя строчки Гомера, обращает внимание на то, что мэоны проживали именно на территории Лидии (Strab., IX, 20). Подобные свидетельства античных авторов позволяют исследователям полагать, что Гомер, описывая мэонов, имеет в виду именно племя лидийцев.
Зачастую Гомер упоминает мэонов в контексте общего описания восточных народов, когда рассказывает про фригийцев и троянцев (Hom. Il., II, 856–866; III, 400–403; X, 430–435). Однако важно и то, что все вышеперечисленные народы воспринимаются аэдом как совершенно различные этнические общности, имеющие свой язык и культуру. В более поздней традиции фригийцы часто ассоциируются с троянцами, а лидийцы воспринимаются наряду с другими ближневосточными соседями как изнеженный восточный народ, совершенно не похожий на эллинов (Андреева 2017, 601).
При изучении упоминаний Гомера о ближневосточных соседях можно выделить две основных тенденции восприятия ближневосточных соседей греками. По-видимому, уже в гомеровское время начинает оформляться легенда о богатстве и могуществе Лидийского царства. Так, Гомер передает речь Елены, обращенную к Афродите: «Куда-либо меня уведешь ты, в далекий многолюдный город, во Фригию или прекрасную Мэонию?» – ἦ πῄ µε προτέρω πολίων εὖ ναιοµενάων ἄξεις, ἢ Φρυγίης ἢ Μῃονίης ἐρατεινῆς (Hom., Il., III, 400–401). В двадцатой песни «Илиады» можно также заметить небольшой намек на богатство и процветание Лидии. При описании сражения Ахилла и Ифитиона, сына Отринта, Гомер бегло говорит о горных просторах Тмола, откуда происходил Ифитион: «Около снежного Тмола, в цветущем селении Гиды» (Hom., Il, XX, 385–386). Страбон в своей «Географии» цитирует стихи Гомера, говоря о том, что Гида находилась именно в Лидийском царстве (Strab., IX, 20).
Подобное отношение к Лидии очень схоже с представлениями о фригийцах. Уже у спартанского поэта Тиртея фригийский царь Мидас символично выступает олицетворением богатства Фригии (Моисеева 1984, 15). В этой связи отметим еще одно упоминание Гомера о Фригии и Лидии, когда аэд описывает речь Гектора, протестующего против отступления троянцев: «Ведь прежде город Приама смертные люди / Все считали богатым златом и медью / Теперь же пропало все прекрасное убранство домов / Многое же во Фригию или прекрасную Мэонию…» – πρὶν µὲν γὰρ Πριάµοιο πόλιν µέροπες ἄνθρωποι / πάντες µυθέσκοντο πολύχρυσον πολύχαλκον· / νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόµων κειµήλια καλά, / πολλὰ δὲ δὴ Φρυγίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν… (Hom., Il., XVIII, 288–291). Из этих строк складывается впечатление, что Гомер уже был свидетелем расцвета этих малоазийских областей. Вполне может быть, что события Троянской войны ускорили развитие Лидийского и Фригийского царств, усиление которых привело к появлению легенд об их роскоши и богатстве.
Еще одна важная черта, которую отмечает Гомер – военная доблесть лидийцев. Если в более поздних источниках чаще подчеркивается роскошь и изнеженность ближневосточных соседей, то у Гомера мы зачастую встречаем описание хорошей военной подготовки восточных народов. Так, древнегреческий аэд перечисляет имена лидийских и фригийских мужей и их военные отряды (Hom., Il. II, 864–866), упоминает Гомер и о лидийском военном снаряжении, которым, по-видимому, хотели обладать даже греки (Hom., Il., IV., 141–144), ни единожды упоминаются лидийцы и в самих сражениях (Hom., Il., V, 43; X, 431).
В архаической поэзии можно найти немногочисленные свидетельства о лидийцах, которые по содержанию напоминают то, что передает Гомер. Алкман, древнегреческий поэт, по происхождению сам был малоазийским греком (Тронский 1988, 112). В византийском словаре «Суда» упоминается, что Алкман происходил из Сард, столицы Лидийского царства (Suda, s. v. Ἀλκµάν). Его «Парфенион», который сохранился в большей степени, относят к самобытному жанру хоровой спартанской поэзии (Zaykov 2004, 71). В нем с сожалением Алкман вспоминает: «Нет у нас лидийских митр, которые украшают юных девушек» – οὐδὲ µίτρα Λυδία, νεανίδων ἰανογ[λ]εφάρων ἄγαλµα (Alcman, fr. 1). У Сапфо находим подобные упоминания красоты лидийских девушек (Sapph., fr. 96; 98). Косвенные намеки на богатство Лидийского царства можно увидеть у Алкея: «Зевс, в лихие дни неудач лидийцы нам две тысячи золотых давали» – Ζεῦ πάτερ, Λύδοι µὲν ἐπα[σχάλαντες συµφόραισι δισχελίοις στά[τηρας ἄµµ' ἔδωκαν (Alcaeus, fr. 69). Упоминается в архаической поэзии и военное искусство лидийцев (Sapph., fr. 16).
Позднее в поэзии Пиндара, относящейся уже к рубежу поздней архаики и раннеклассического времени, мы также встречаем упоминание лидийцев. Древнегреческий лирик, прославляя победителя скачек на Олимпийский играх Гиерона Сиракузского, добавляет, что и в лидийских поселениях он является чтимым героем: «Сияет его (Гиерона) слава и в мужественном поселении Пелопса Лидийского – λάµπει δέ οἱ κλέος ἐν εὐάνορι Λυδοῦ Πέλοπος ἀποικίᾳ (Pind. Ol., I, 24). В другом отрывке мы уже можем найти намек на интерес древнегреческого лирика к лидийским песням: «Я пришел воспеть / Бережной песнею на лидийский лад / Того, чье имя Асопих…» – Λυδῷ γὰρ Ἀσώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν µελέταις τ' ἀείδων ἔµολον (Pind. Ol., XIV,17, пер. М. Л. Гаспарова). В Первой Пифийской оде упоминает Пиндар и доблесть последнего лидийского царя Креза (Pind. Pyth., I,94).
И хотя в архаической поэзии содержится не так много свидетельств, описывающих лидийцев, небольшие фрагменты все же позволяют сделать некоторые выводы, касающиеся отношения греков к ближневосточным соседям в данное время. В античных источниках гомеровского и архаического периодов мы можем выделить следующие черты в восприятии греками лидийцев: частое упоминание процветания чужеземной страны, описание военной доблести лидийцев. Кроме прочего, в глаза бросается и то, что зачастую в маленьких отрывках поэты намекают на своеобразную, но небезынтересную им культуру и быт лидийцев: их украшения, одеяния, песни. Все это может наводить на мысль о существовании некой ближневосточной моды и увлечения греками лидийской культурой в архаическую эпоху.
Давно было отмечено влияние Востока на греческий мир, а в последнее время исследователи уделяют все больше внимание данному вопросу (Суриков 2014, 59). В VII в. до н. э. происходит расцвет нового ориентального или ориентализирующего стиля в древнегреческой вазописи, который приходит на смену геометрическому. В большей степени он распространяется на территории Ионии, жители которой находились в тесных контактах с ближневосточными соседями (Суриков 2014, 59), а также Коринфа, одного из главных торговых центров в архаическое время (Weimberg 1943). Ориен-тализирующий стиль греческой керамики сравним с керамикой ближневосточных народов. В 1900 г. раскопки Гордиана помогли обнаружить особый стиль фригийской керамики, а с 1950 г. данные раскопки были продолжены Пенсильванским университетом, что позволило увеличить коллекцию (Sams 1974, 170). И действительно, ближневосточная керамика и греческий ориентализирующий стиль имеет множество общих черт: в виде орнамента зачастую выступает меандр, изображения животных имеют неестественную удлиненную форму, среди животных чаще всего изображаются львы, быки, козы, дикие кабаны.
В ранний архаический период в Греции начинают появляться бытовые и декоративные ближневосточные изделия: ювелирные изделия из золота, серебра, драгоценных камней, бронзовая посуда с чеканенными и литыми украшениями, оружие, части конной упряжи, вотивные статуэтки и т. д. Найдены они в основном в древних религиозных центрах Греции – в Дельфах, Олимпии, святилищах Геры на Самосе и в коринфской Перахоре (Яй-ленко 1990, 211). В. П. Яйленко, который особенно подчеркивает значение ближневосточных заимствований, выделяет три этапа в их распространении: 1) период импорта в Грецию ближневосточных вещей (вторая половина VIII в. до н. э.); 2) создание греками копий и компиляций восточных предметов (VIII – первая половина VII вв. до н. э.); 3) начало независимого развития древнегреческого искусства (вторая половина VII в. до н. э.) (Яй-ленко 1990, 211).
Большое влияние на себе испытала и греческая мысль, которая впитывала ближневосточные идеи (Witowski 2018, 7). Эпическая поэзия Гесиода наполнена ближневосточной мудростью, как и философские системы, и школы первых греческих мыслителей, которые развиваются, прежде всего, в Малой Азии, например, Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра (Witowski 2018, 7). На тесную связь греческого мира с восточными соседями указывали уже сами греки, причем в некоторых случаях подобные высказывания греков превращались в некую одержимость по отношению к восточным народам. Так, справедливо отмечается «египтомания» Геродота и его любовь приписывать греческие достижения египтянам (Жмудь 2002, 61). Подобное совершал и Гекатей, приписывая создание греческого алфавита Данаю, сыну египетского правителя (Жмудь 2002, 62).
Однако в эпоху поздней архаики и классики ситуация начинает меняться, как и само понятие «варвар» в представлении древних греков. Использование слова «варвар», согласно Страбону, появляется впервые у Гекатея Милетского, который говорит о том, что до греков на Пелопоннесе жили варварские племена (Strab., VII, 7). В ранних архаических источниках само понятие «варвар» отсутствует как таковое, хотя прилагательное βαρβαρόφωνοι встречается у Гомера для характеристики карийцев, общающихся на другом языке, оно не синонимично понятию «варвар» (Маринович 2006, 7). Отмечается появление некоего культурного противопоставления греков и варваров уже у Анакреонта, не понимающего и осуждающего скифское пристрастие к пьянству (Anacr., fr. 51, 79а, Diehl). У Гераклита из Эфеса также присутствует некоторый отрицательный оттенок восприятия культуры варваров: «Глаза и уши – дурные свидетельства для людей, если души у них варварские» – κακοί µάρτυρες άνθρώποισιν οφθαλµοί και ώτα, βαρβάρους ψυχάς εχόντων (Маринович 2006, 9). Подобные свидетельства позволяют предполагать, что культурное противопоставление эллинской и варварской культур уже присутствовало в архаическое эпоху, хотя было выражено довольно слабо.
Переломным этапом в формировании собственной идентичности для греков становятся греко-персидские войны. Еще до персов лидийские правители из династии Мермнандов начали совершать военные походы в греческие полисы Малой Азии, а ионийские греки долгое время находились в зависимом положении от лидийских правителей (Hdt., I., 14). При этом до нас не дошло свидетельств столь серьезного культурного противопоставления лидийцев и греков, как в случае с греками и персами. Наоборот античные авторы сообщают о культурных контактах греков и лидийцев, описывая богатые дары лидийских правителей в греческое Дельфийское святилище (Hdt, I, 14; I, 24; I. 50–52), перестройку лидийцами греческих храмов, разрушенных в ходе военных действий (Hdt, I, 18), путешествие греческих мудрецов в Лидийское царство (Hdt., I, 27; 29; 75), ксенические связи лидийцев и греческих аристократов (см. об этом: Кулишова 2001, 218).
Серьезным образом восприятие лидийцев греками меняется после греко-персидских войн. Объяснения подобным изменениям, как нам кажется, можно увидеть в «Истории» Геродота, где содержится наибольшее количество сведений о взаимоотношениях лидийцев и греков.
В первой книги своей «Истории» Геродот дает краткую характеристику того, как греки взаимодействовали с лидийцами еще до появления Персидской державы. Геродот, как и предшествующие ему авторы, описывает лидийцев как сильнейших из малоазийских народов, отмечая их конницу, прекрасных наездников и военное снаряжение (Hdt., I, 79). Однако складывается впечатление, что вся первая книга труда Геродота направлена именно на то, чтобы показать крушение Лидийского царства. Геродот делает акцент на том, что с воцарения династии Мермнандов, первый ее царь Гигес получил прорицание Дельф о том, что Лидийская династия падет в пятом поколении (Hdt., I, 13). Данное предсказание сбывается при последнем лидийском династе Крезе, который, вопрошая Дельфы о походе против персов, получает известный ответ: «если Крез пойдет войной на персов, то разрушит великое царство» (Hdt., I, 91). Геродот в своем изложении придерживается идеи провиденциализма, уделяя особое внимание предсказаниями Дельфийского оракула.
Повествование древнегреческого историка о лидийцах, начиная со второй книги, отличается от характеристики лидийцев в первой части «Истории». Важно также отметить, что перелом в восприятии лидийцев у Геродота обозначен тем моментом, когда Крез попадает в плен к персам и Лидийское царство фактически теряет свою былую независимость и славу (Hdt., I, 86).
Во второй книги «Истории» Геродот описывает занятие ремеслом у варваров, подчеркивая, что варварские народы, к которым он относит фракийцев, персов, скифов и лидийцев, не поощряют занятия ремеслом, а скорее наоборот, считают, что человеку не достойно заниматься физическим трудом, а главное благо – посвятить свою жизнь военному делу (Hdt., II, 167). Это одно из первых упоминаний Геродота, где он четко характеризует лидийцев как варваров и ставит их в один ряд с другими варварскими народами.
В третьей части исторического повествования Геродота, историк описывает уже зависимое положение лидийцев от персов и отмечает, что лидийцы подобно другим варварам должны платить подать Персидкой державе согласно тому, как распорядился царь Дарий (Hdt., III, 90). От лидийцев в персидскую казну, как и от мисийцев, ласонцев, кабалиев и гитеннов поступало 500 талантов (Hdt., III, 90). Подробное снисходительное описание варваров Геродот вкладывает в уста Аристагора, тирана Милета, который обратился за помощью к спартанскому царю Клеомену – Ἀπικνέεται δ' ὦν ὁ Ἀρισταγόρης ὁ Μιλήτου τύραννος ἐς τὴν Σπάρτην Κλεοµένεος ἔχοντος τὴν ἀρχήν (Hdt., V, 49). В своей речи Аристагор упоминает лидийцев, фракийцев, ки-ликийцев, каппадокийцев и других варваров в одном ряду, при этом он жа- луется Клеомену, что ионийцы стали рабами подобно упомянутым варварам. Помимо восприятия варваров как рабов, в речи Аристогора появляется и суждение о том, что они не обладает военной доблестью как эллины: «Ведь варвары не мужественны, вы же в войне достигли огромной доблести» – Οὔτε γὰρ οἱ βάρβαροι ἄλκιµοί εἰσι, ὑµεῖς τε τὰ ἐς τὸν πόλεµον ἐς τὰ µέγιστα ἀνήκετε ἀρετῆς πέρι (Hdt., V, 49).
У Геродота уже довольно отчетливо выражено противопоставление персов и греков, которые, по мнению историка, различаются в политическом и культурном плане (Рунг 2005, 137). При этом мы склонны полагать, что именно отношение Геродота к персам наложило отпечаток на восприятие историком лидийского народа. Геродот начинает по аналогии с персами противопоставлять грекам и остальные ближневосточные народы, попавшие под их власть.
Геродот приводит несколько показательных примеров того, как лидийцы поддерживали персов во время сражений с греками. Прибывшие в Сарды ионийцы, сперва желающие разграбить город и наказать персов и лидийцев, подожгли Сарды. От пожара, фактически уничтожившего город, лидийцы и персы спасались вместе, как и старались защититься от греков (Hdt., V, 100–102).
Важным упоминанием является случай, описанный Геродотом, о том, как персидскому владыке Ксерксу некий лидиец Пифий, сын Атиса, устроив богатый прием в Келенах, добровольно захотел оказать финансовую помощь, отдав персам свое денежное имущество и поддержав тем самым персидское войско (Hdt., VII, 27–28). Сам Ксеркс даровал ему титул гостеприимца персидского царя (ξεῖνόν τέ σε ποιεῦµαι ἐµὸν), тем самым выказав обратную дружбу по отношению к лидийцу (Hdt., VII, 28).
В древнегреческой трагедии мы уже можем встретить схожее восприятие лидийского народа, как варварского. Э. В. Рунг усматривает в трагедии Эсхила «Персы» начало формирования образа «варвара» (Рунг 2005, 135), а большинство исследователей сходятся во мнении, что само противопоставление «греческого» и «негреческого» у Эсхила уже присутствует (Juthner 1923, 18; Goldhill 1988, 192–193). При описании лидийцев Эсхил упоминает их как изнеженный роскошью и богатством народ (Aesch., Pers., 40–45). В такой характеристике Эсхила можно усмотреть сочетание старого восприятия лидийцев как богатых восточных соседей, а также новую негативную тенденцию отношения к ним как к избалованным роскошью людям.
Еще одно свидетельство подобного рода содержит трагедия Еврипида «Вакханки», посвященная мифу о Дионисе. В уста Пенфея, фиванского царя, Еврипид вкладывает следующие строки, касающиеся появления Диониса:
«Да говорят, какой-то чародей / Пожаловал из Лидии к нам в Фивы... / Вся в золотистых кудрях голова / И ароматных, сам с лица румяный, / И чары Афродиты у него / В глазах: обманщик дни и ночи / С девицами проводит, -учит их / Он оргиям ликующего бога... (Eur., Bacch., 234–238, пер. И. Анненского). В данном отрывке довольно сложно определить, относится ли все сказанное к образу самого Диониса или к образу лидийца. Тем не менее, обратим внимание на то, что даже если в глазах Еврипида сам Дионис предстает богато одетым, привлекательным мужем, который на самом деле лишь одурманивает девушек и обманывает людей, то не зря Еврипид упоминает в этом контексте Лидию, что на наш взгляд, свидетельствует и о том, что подобным образом могли воспринимать уже самих лидийцев.
Итак, в данной работе мы ограничились свидетельствами авторов VIII – начала V вв. до н. э. Данные свидетельства демонстрируют постепенное изменение отношений греков к ближневосточным соседям, а также развитие у эллинов идеи «общегреческого единства», которая достигла своего расцвета в классическую и эллинистическую эпохи. Развитие представлений древних греков о самих себе, а также изменение отношения эллинов к варварам повлияли и на восприятия греками лидийского народа. Взаимоотношения греков и лидийцев постепенно меняются на рубеже архаической и классической эпох. Во времена Гомера и в архаической поэзии (у Алкмана, Алкея, Сапфо) распространены упоминания о том, что Лидийское царство славилось своим богатством, а сами лидийцы представлялись грекам успешными войнами с хорошей боевой подготовкой. Несмотря на то, что в архаическую эпоху политические отношения лидийцев и древних греков часто сопровождались военными столкновениями, между двумя народами существовала тесная связь, которая обеспечивала культурный обмен и взаимопроникновение в Грецию восточных традиций. Феномен восточной моды, который появляется в архаическую эпоху, указывает на то, что греки охотно шли на контакты с ближневосточными народами, с интересом относясь к их культурным особенностям, которые нередко ценили выше греческих и старались им подражать.
Ситуация коренным образом меняется, начиная с периода возвышения Персидской державы и потери Лидийским царством своей былой независимости. В данный период времени эллины начинают противопоставлять персам свою культуру, политический и социальный уклад жизни. Постепенно развивается представление греков о своем превосходстве над варварами, а сам термин «варвар» меняет свою коннотацию, приобретая в сознании эллинов более негативный оттенок. Сотрудничество лидийцев и персов, начиная с последнего представителя династии Мермнандов Креза, стало основой для появления отношения греков к лидийцам как к варварам, подобным персам. В раннеклассических античных источников лидийцы воспринимаются греками как варварский народ, постепенно развивается идея об изнеженном образе жизни лидийцев и об их чуждой для греков культуре. Подобные примеры наиболее часто встречаются у Геродота, а также присутствуют в древнегреческой трагедии.
Список литературы Восприятие греками лидийцев в архаическое и раннеклассическое время
- Андреева, Е. Н. (2017) «Sero sapiunt Phryges: образ фригийца в античной литерату- ре», Вестник древней истории 77/3, 599–614.
- Жмудь, Л. Я. (2002) Зарождении истории науки в античности. Санкт-Петербург.
- Исаева, В. И. (1990) «Идеологическая подготовка эллинизма», Эллинизм: экономика, политика, культура. Москва.
- Кулишова, О. В. (2001) Дельфийский оракул в системе античных межгосударствен- ных отношений (VII–V вв. до н. э.). Санкт-Петербург.
- Маринович, А. П. (2006) «Возникновение и эволюция доктрины превосходства греков над варварами», Античная цивилизация и варвары. Москва.
- Моиссева, Т. А. (1984) «Мидас как символ богатства в античной традиции», Вестник древней истории 4, 12–29.
- Рицца, А. (2013) «Лидийский язык», Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии. Москва, 75–97.
- Рунг, Э. В. (2005) «Представление персов как варваров в греческой литературной традиции V в. до н. э.», Мнемон 4, 126–166.
- Рунг, Э. В. (2009) Греко-персидские отношения: Политика, идеология, пропаганда. Казань.
- Суриков, И. Е. (2014) «Греческая архаика как историческая эпоха: современный взгляд. Вторая половина (VII–VI вв. до н. э.)», Вестник Нижегородского уни- верситета им. Н.И. Лобачевского 5, 52–63.
- Тронский, И. М. (1988) История античной литературы. Москва.
- Фролов, Э. Д. (2001) Греция в эпоху поздней классики: Общество. Личность. Власть. Санкт-Петербург.
- Шеворошкин, В. В. (1967) Лидийский язык. Москва.
- Яйленко, В. П. (1990) Архаическая Греция и Ближний Восток. Москва.
- Bacon, H.H. (1961) Barbarians in Greek Tragedy. New Haven.
- Goldhill, S. (1988) “Battle Narrative and Politics in Aeschylus’ Persae,” Journal of Hellenic Studies 108, 189–193.
- Gusmani, R. (1964) Lydisches Wörterbuch. Heidelberg.
- Hall, E. (1989) Inventing the Barabarian. Greek Self-definition Through Tragedy. Oxford.
- Isaac, B. (2004) The Invention of Racism in Classical Antiquity. Princeton / Oxford.
- Juthner, J. (1923) Hellenen und Barbaren. Leipzig.
- Melchert, C. H. (2008) “Lydian,” The Ancient Languages of Asia Minor. Cambridge, 56–63.
- Perlman, S. (1976) “Panhellenism, the Polis and Imperialism,” Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 25, 1, 1–30.
- Sams G. K. (1974) “Phrygian Painted Animals: Anatolian Orientalizing Art,” Anatolian Studies 24, 169–196.
- Weinberg, S. S. (1943) “The Geometric and Orientalizing Pottery,” Corinth 7, 1, 1–104.
- Witowski, J. (2018) “Several Remarks About the Near-Eastern Contribution to Early Ar- chaic Greek Warfare,” Studies in Ancient Art and Civilization 22, 7–22.
- Zaykov, A. (2004) “Alcman and the Image of Scythian Steed,” Pontus and the Outside World: Studies in Black Sea History, Historiography, and Archaeology 69–84. Leiden / Boston.