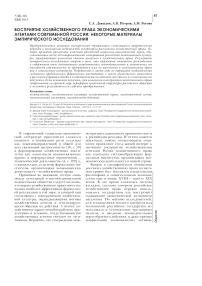Восприятие хозяйственного права экономическими агентами современной России: некоторые материалы эмпирического исследования
Автор: Давыдов Сергей Александрович, Петров Александр Викторович, Рогова Анна Михайловна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Ценностный опыт
Статья в выпуске: 2 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
Предпринимается попытка эмпирической верификации сложившихся теоретических подходов к пониманию особенностей восприятия россиянами хозяйственного права. Авторы приводят аргументы классиков российской социально-экономической науки, обосновывающих тезис об инвариантности императивов российской хозяйственной культуры, утверждающих невысокую степень уважения к хозяйственному праву. Результаты эмпирического исследования говорят о том, что сдержанное отношение респондентов к содержанию ныне действующего хозяйственного законодательства и узаконенных им отношений собственности не проецируется ими на отношение к хозяйственному праву как к социальному институту. Опрошенные в явном виде не отрицают необходимости следования предписаниям формальных институтов, в целом уважительно относятся к различным формам дохода и к собственности на капитал как одному из источников его получения. Есть основания полагать, что изменения в восприятии хозяйственного права затрагивают по крайней мере периферию ценностной структуры российского общества и являются результатом его глубокого преобразования.
Легитимность, хозяйственная культура, хозяйственное право, хозяйственный агент, экономический институт, экономическое действие
Короткий адрес: https://sciup.org/140257546
IDR: 140257546 | УДК: 316
Текст научной статьи Восприятие хозяйственного права экономическими агентами современной России: некоторые материалы эмпирического исследования
Давыдов С.А., Петров А.В., Рогова А.М. Восприятие хозяйственного права экономическими агентами современной России: некоторые материалы эмпирического исследования // Общество. Среда. Развитие. – 2021, ¹ 2. – С. 67–70.
В современной социально-экономической литературе практически сложился консенсус в понимания роли культуры как «взаимонаправленной и общей для всех связующей настроенности» [10, с. 33] в формировании хозяйственных институтов как «комплексов взаимосвязанных правил и неформальных ограничений ... экономической деятельности» [4, с. 129], а, следовательно, и системы формальных институтов, организующих экономическую деятельность – хозяйственного права.
Принимая во внимание тесную связь между культурной и институциональной подсистемами общества следует полагать, что нормы хозяйственного права могут находить наиболее эффективные формы своей реализации в той мере, в которой они согласованы с императивами хозяйственной культуры, оправдывающими мотивы хозяйственных агентов и легитимирующими образцы их действия. А значит, хозяйственное право способно работать продуктивно в условиях, когда большинство хозяйственных агентов считают их легитимным. Вероятно, это утверждение мож- но признать адекватным применительно и к российским реалиям. И оттого кажется понятным, почему отечественные социологи проявляют столь живой интерес к изучению восприятия хозяйственными агентами России хозяйственного права как комплекса системообразующих формальных институтов, организующих экономическую деятельность в нашей стране.
Вопрос о специфическом отношении россиян к хозяйственному праву на научном уровне был поставлен социальными философами и социетальными экономистами еще в конце XVIII – начале XIX веков. В это время сложилась система взглядов, согласно которым российское хозяйственное право нередко использовалось государством как инструмент сковывания экономической активности населения. По мнению исследователей, для установления полного контроля над экономикой российское государство использовало и установление чрезмерных налогов, и введение законодательных норм обратного действия, и даже прямые конфискации экономических активов.
Общество
В формировании такого мнения большое значение имели свидетельства современников, воочию наблюдавших притеснения хозяйственных агентов уже во времена Московского государства. Например, по словам Юря Крижанича (конец XVII века) «русские отовсюду и везде связаны, ничего не могут свободно делать, трудом рук своих не могут пользоваться. Все должны делать и торговать тайком, в мол- чанку, со страхом и трепетом, укрываться ... от огромной толпы правителей или палачей» [9, с. 378].
Исследователи справедливо полагали, что в России на протяжении длительного времени вполне проявляло себя правило, согласно которому «чем выше издержки легальной деятельности (уровень налогов, административные барьеры и т.п.), тем больше экономический агент тяготеет к
Общество. Среда. Развитие № 2’2021
теневой деятельности» [11, с. 142]. И как следствие этого, у хозяйственных агентов России сформировалась прочная установка, что на «государство ..., как на врага, не распространяются моральные запреты: его можно обманывать, у него можно красть, обещания, данные государству, можно не выполнять» [3, с. 54].
Противостояние экономических акторов и государства усугублялось еще и тем, что, будучи, по словам Крижанича, «строгим» и «свирепым» [9, с. 377], российская власть не использовала в должной мере свои возможности по установлению закона и правопорядка в хозяйственной сфере. По словам Ивана Посошкова (конец XVII века), «Во всех государствах христианских и басурманских разбоев нет таких, каковы у нас на Руси, а все оттого, что там потачки им ни малыя нет ... У нас же долго с судом волынят, а вышедшие из тюрем опять воруют» [7, с. 228]. Недоверие хозяйственных агентов к хозяйственному праву добавлял еще и считавшийся традиционным произвол государственных чиновников и судей, которые, «не получая достаточно жалованья, [не могли – авт. ] как должно исполнять свои обязанности» [9, с. 378].
Многие исследователи отмечали, что неэффективность и ненадежность хозяйственного права в России неизбежно приводили к формированию скептического отношения хозяйственных агентов к собственности на капитал. По словам профессора Дювернуа, обладание собственностью в России традиционно связывалось с «тяжестью личной службы государству» [12, с. 532], при этом сама государственная служба должна была приобрести «почти религиозное значение грандиозной, не- прерывной литургии в храме государства» [5, с. 88]. Многие исследователи апеллировали к содержанию норм хозяйственного права России, ряд которых предусматривал прямое изъятие собственности у людей, «от которых к государственной пользе надеяться не можно» [12, с. 532]. Делалось заключение, что в таких условиях сложно было бы говорить о формировании установок на преумножение частной собственности на капитал, а также императивов ее неприкосновенности и уважительного к ней отношения. В свою очередь, правовая незащищенность собственника, по мнению И. Лосского, приводила к подрыву хозяйственной мотивации, формированию у экономических агентов «презрения к мещанству, к буржуазной сосредоточенности на собственности, на земных благах» [4, с. 49].
Принимая во внимание все эти обстоятельства и наблюдая за происходящим вокруг, Павел Флоренский пришел к выводу, что в современной ему России понятие закона перестало ассоциироваться с понятием права, оно стало понятием «не юридическим и почти равносильным платоновской “идее”. Закон [у русских – авт. ] – это норма не поведения, а бытия. Преступление есть... выступление за... какую-то черту, хождение за пределами человеческого бытия, существенно присущей ему» [6, с. 22]. Подобная трактовка закона, нередко свойственная высоко мобилизованным обществам [2], выводила хозяйственное право в России из области культурной легитимации и способствовала его восприятию в большей степени как дискомфортной формальности. Не случайно, что в представлении современных социологов и сегодня для достижения целей хозяйственной деятельности экономические агенты могут считать возможным «пойти на правовые нарушения, не пренебрегая при этом обычаями, традициями» [8, с. 56].
Поскольку проблема легитимности хозяйственного права в России все еще дискутируется на страницах современной социально-экономической литературы, авторам показалось уместным поучаствовать в научном дискурсе и поделиться некоторыми результатами проведенного ими эмпирического исследования.
Методом сбора социологических данных явился анкетный опрос. Анкетирование проводилось в 22 российских регионах Северо-Западного, Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов. Всего в анкетировании приняли участие 1247 респондентов трудоспособного возраста. При формировании выборки авторы стремились обеспечить соответствие ее структуры структуре трудоспособного населения России по гендерной принадлежности, возрасту и месту рождения респондентов. В результате в выборку попали 40,3% мужчин и 59,7% женщин, 45% лиц старшей (от 36 лет) и 55% лиц младшей (до 35 лет включительно) возрастной категории, 57,1% проживающих в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, областные центры) и 42,9% проживающих в малых городах и сельской местности. Респондентам предлагался опросный лист с 39 преимущественно закрытыми вопросами, содержащими суждения, с которыми они могли не согласиться, или согласиться полностью или частично. Для оценки степени согласия с суждением респондентам предлагалась 5-балльная шкала, сконструированная согласно принципам построения шкалы Лайкерта.
Из полученных результатов наиболее интересными в рассматриваемом контексте являются следующие.
Прежде всего, нам показалось важным проверить многими и сегодня поддерживаемую гипотезу об укорененности отрицательного отношения россиян к государству и результатам его экономической деятельности. Полученные нами результаты говорят в пользу того, что подобная гипотеза имеет право на существование. Об этом свидетельствует распределение данных респондентами оценок суждения: «Наше государство скорее мешает хозяйственной деятельности, чем помогает ей». Полностью согласились с этим суждением 25,3% респондентов, скорее согласились, чем не согласились с ним 27,6%, в равной мере и согласились и не согласились с сужением 28,2%, скорее не согласились с ним лишь 12,9% опрошенных, и еще меньше полностью не согласились с суждением – 5,7%.
Следует отметить также сохранившиеся до сих пор сомнения населения в том, что хозяйственности законы в России служат его интересам. Сомнения эти, не абсолютны, но достаточно сильно выражены. Во всяком случае, с суждением «Хозяйственные законы не служат интересам основной массы трудящихся» полностью согласились 17,9% респондентов, 26,7% согласились частично, 32,7% в равной степени согласились и не согласились, скорее не согласились 16,3%, полностью не согласились лишь 6,2%.
Следует обратить внимание на специфическое восприятие респондентами легитимности формально узаконенного института частной собственности. Так, большинство респондентов считает существенным при оценке легитимности собственности моральную составляющую использованных способов ее приобретения. Так, с суждением «Заслуживает уважения лишь та собственность, приобретение которой не сопровождалось нарушением норм морали» полностью согласились 39,7%, частично согласились 26,6%, затруднились с оценкой 17,5%, скорее не согласились 9,7%, и только 6,3% посностью с ним не согласились. Тем самым, значимое большинство опрошенных более или менее явно артикулируют отрицательное отношение к собственности, полученной с нарушением моральных норм. Они не готовы признать такую собственность легитимной.
При отрицательном отношении к «нечестно» приобретенной собственности, респонденты, тем не менее, не демонстрируют единства в вопросе о целесообразности ее экспроприации. С суждением «Несправедливо приобретенная собственность может быть изъята – даже в случае, если она была получена законным путем» полностью согласились только 16,1% респондентов, скорее согласились 17,5%, в равной степени согласились и не согласились 24,8%, скорее не согласился с суждением 21%, и полностью не согласились с ним 20,4% опрошенных. Это дает нам основания осторожно предположить, что в современном российском обществе складывается уважительное отношение к собственности как экономическому институту.
Далее, полученные данные позволяют предположить, что в современной России законные доходы с собственности на капитал выходят из сферы источников дохода, удостаивающихся низкой моральной оценки. Так, с суждением «Получение трудовых доходов заслуживает более высокой моральной оценки, чем получение доходов с собственности» полностью согласились 20,9% опрошенных, 18,3% согласились частично, 27,6% в равной степени согласились и не согласились, скорее не согласились 16,7%, полностью не согласились 15,9%. В дополнение к этому следует принять во внимание оценки, вынесенные респондентами суждению: «Людям, которые сосредоточены лишь на собственном материальном благополучии, должно быть стыдно». Полностью согласились с суждением 10,2%, скорее согласились 11,7%, не
Общество
определились с оценкой 18,3%, и уже значительно большее количество опрошенных частично и полностью не согласились с ним – 26,2% и 28,6% соответственно. Оценки респондентов двух приведенных выше суждений демонстрируют, что опро- шенные в целом рассматривают законно полученную капиталистическую прибыль в качестве легитимного источника доходов, и не отрицают ценности хозяйственной деятельности ради ее получения.
В целом можно отметить, что сдержанное отношение к содержанию ныне действующего хозяйственного законодательства и узаконенных им отношений собственности не проецируется респондентами на отношение к хозяйственному праву как к социальному институту. Они в явном виде не отрицают необходимости следования предписаниям формальных институтов, уважительно относятся к формам дохода и собственности на капитал как одному из источников его получения. Примечательно, что респонденты демонстрируют терпимое отношение к законодательным нормам, регулирующим хозяйственную деятельность, даже в том случае, когда они расходятся с нормами морали и обычного права. В этом контексте показательны сделанные респондентами оценки суждения «На нарушение хозяйственного закона можно пойти, если не пренебрегать моралью и обычаями». С этим суждением полностью согласились только 10,5% опрошенных, скорее согласились с ним 18,2%, в равной степени согласился и не согласился с ним 31,5% опрошенных, скорее не согласились с суждением 22,1%, и полностью не согласились с ним 17,5% респондентов.
Разумеется, полученными в ходе опроса данными авторы не собираются подвергать сомнению теоретические выводы тех отечественных специалистов, кто обосновывал тезис об инвариантности российского императива о высокой степени недоверия экономических агентов к хозяйственному праву как формальному институту. Современная Россия является результатом глубокой трансформации той России, о которой писали классики русской социальной философии и экономической теории, что сопровождалось и коренными преобразованиями хозяйственной системы нашей страны, возвращающих ей некогда утраченные черты социетального хозяйства [1, с. 114–119]. И одним анкетным опросом сложно выявить и проанализировать все грани отношения респондентов к такому сложному явлению экономической культуры, как хозяйственное право. Тем не менее, уже данные этого эмпирического исследования позволяют сделать ряд предварительных выводов о существенном значении развития хозяйственного права для успешного социально-экономического развития нашей страны.
Общество. Среда. Развитие № 2’2021
Список литературы Восприятие хозяйственного права экономическими агентами современной России: некоторые материалы эмпирического исследования
- Давыдов С.А. Берега Ойкумены. Историческая социология о парадоксах хозяйственной жизни Древнего Востока. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. - 131 с.
- Давыдов С.А. Зарождение мобилизационного императива в хозяйственной культуре Древнего Египта: гипотеза демографического давления // Обсерватория культуры. - 2014, № 5. - С. 126-135.
- Косьянова К. К вопросу о русском национальном характере. - М.: Ин-т нац. модели экономики, 1994. - 367 с.
- Лосский Н.О. Свободолюбие // Слово. - 1990, № 3. - С. 32-98.
- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М.: Фонд экономической книги «Начало», 1997. - 180 с.
- Отец Павел Флоренский. Столп и утверждение истины. - М.: Путь, 1914. - 814 с.
- Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. -М.: Соцэкгиз, 1937. - 414 с.
- Согомонов А.Ю. Жизненный мир успеха и неудач. Речевые практики и риторические рационализации достижительного успеха в повседневном дискурсе постсоветских профессионалов // Современный социологический анализ. - М., 1996. - С. 42-66.
- Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. - М.: Правда, 1989. - 765 с.
- Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. - СПб.: Владимир Даль, 2002. - 448 с.
- Шуплецов А.Ф., Шамбуров С.А. Оценка теневой экономики в промышленности региона // Регион: экономика и социология. - 2003, № 4. - С. 136-148.
- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т XXVII. - СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1899. - 938 с.