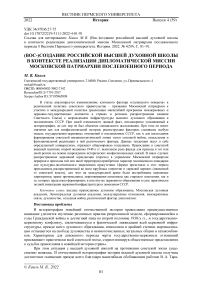(Вос-)создание российской высшей духовной школы в контексте реализации дипломатической миссии Московской патриархии послевоенного периода
Автор: Каиль М.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Советская витринная дипломатия: практики в сфере науки и образования
Статья в выпуске: 4 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется взаимовлияние ключевого фактора «сталинского поворота» в религиозной политике советского правительства - призвания Московской патриархии к участию в международной политике (реализации масштабной программы межцерковных и церковно-государственных контактов в странах и регионах распространения влияния Советского Союза) с возрождением инфраструктуры высшего духовного образования в послевоенном СССР. При своей очевидности данный факт, неоднократно упоминаемый в историографии, до сих пор не был объектом специального исследования. При этом он имеет значение как для конфессиональной истории, реконструкции факторов, слагавших особую модель государственно-церковных отношений в послевоенном СССР, так и для воссоздания формирования советской внешнеполитической линии эпохи холодной войны, осмысления и функциональной реализации в ней религиозного фактора. Данные тенденции несут в себе определенный универсализм, отражают общемировую тенденцию. Православие в советской внешней политике второй половины 1940-х гг. выполняло роль фасада для прихода в тот или иной регион на основе возрождения исторических конфессиональных связей. В иных случаях распространение церковной юрисдикции (переход в управление Московской патриархии иерархов и приходов той или иной территории) приобретало характер полноценного плацдарма для культурно-политического закрепления присутствия. Церкви предстояло в этот период преодолевать распространенный во всем зарубежье стереотип о «красной церкви» (зависимой от советской власти), для чего на международной арене были востребованы церковные харизматики, яркие проповедники, переговорщики-дипломаты как старшего поколения, так и те, которых предстояло формировать в институтах церковного образовании в силу практически полной ликвидации церковной инфраструктуры в довоенном СССР.
Высшее православное духовное образование, московская духовная академия, ленинградская духовная академия, международные отношения, межцерковные связи, духовенство, холодная война, религиозный фактор дипломатии
Короткий адрес: https://sciup.org/147246457
IDR: 147246457 | УДК: 34(470)6:27-75 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-4-81-91
Текст научной статьи (Вос-)создание российской высшей духовной школы в контексте реализации дипломатической миссии Московской патриархии послевоенного периода
Постановка проблемы
В историографии новейшей отечественной истории православия преимущественное внимание уделяется изучению различных практик репрессивной модели, сформировавшейся в годы Гражданской войны и достигшей пика во второй половине 1930-х гг., и государственноцерковному конфликту, заключавшемуся в фактической ликвидации всей церковной инфраструктуры, прежде всего духовного образования, епископата и крайней степени маргинализации оставшегося на свободе духовенства и немногочисленных легальных общин и катакомбни-ков. Характерные для довоенного периода черты государственно-церковных отношений присваивают практически всей советской эпохе, стереотипизируя общественные представления о судьбах православия в новейшей истории страны.
При этом ситуация с высшей духовной школой на протяжении советской эпохи существенно менялась. В отечественной историографии история высшей духовной школы получила достаточное освещение прежде всего благодаря масштабным обобщающим работам В. А. Тара-
совой [ Тарасова , 2005] и исследованиям Н. Ю. Суховой [ Сухова , 2006; Сухова , 2009]. Однако все эти работы посвящены исключительно дореволюционному периоду развития духовной школы, завершая повествование закрытием академических центров. Постреволюционный (советский) период по умолчанию воспринимается как период ликвидации церковного образования. История духовной школы обзорно, на протяжении всего советского периода, получила освещение в работе М. В. Шкаровского [ Шкаровский , 2015], отдельным этапам бытия образовательных центров в советской действительности посвящены статьи в основном церковных современных авторов [ Светозарский , 2019, с. 80–103; «В современных учебных заведениях…, 2016, с. 110–155]. При этом, разумеется, изучение системы духовных академий как институциональной формы имеет и должное научно-методологическое обоснование, связано с исследованиями российской высшей школы, трансформацией ее имперских форм в советские. Имеет значение и исследование академической корпорации – профессуры как сообщества [ Светозарский , 2019, с. 80–103]. В контексте темы данной статьи акцентируется именно эта проекция – воссоздание профессорской корпорации в реконструируемых духовных академических центрах 1940-х гг.
Период завершения Великой Отечественной войны и послевоенные годы относятся к одной из наименее изученных страниц в истории российского православия. Период открывается в сентябре 1943 г. эпохальной встречей в Кремле И. В. Сталина с тремя митрополитами во главе с патриаршим местоблюстителем Сергием (Страгородским) и последовавшим Архиерейским собором Русской православной церкви (РПЦ), избравшим нового предстоятеля церкви и означавшим легализацию высшего церковного управления и начал о процесса реконструкции церковного управления - от общецерковного до епархиального.
Начинался период конструктивного и постоянного взаимодействия советской администрации и структур Московской патриархии. Основной линией этого взаимодействия в условиях определения послевоенного миропорядка и разворачивающейся холодной войны становится церковно-дипломатическая. Через формальный канал коммуникации с советским правительством – Совет по делам Русской православной церкви – иерархия была призвана к выполнению серии значимых церковно-дипломатических миссий, установлению и поддержанию постоянного взаимодействия с восточными патриаршими престолами (исторически считающимися старшими и первенствующими, во многом определяющими позицию всего православного мира, состоявшего из них и ряда поместных и автокефальных православных церквей). Фактически вся переписка патриарха Алексия (Симанского) с Советом по делам РПЦ 1945-1947 гг. строилась вокруг дипломатических сюжетов и реализации миссий (Письма Патриарха Алексия I..., 2009, с. 34-502). Распространенность православия в мире позволяла строить сетевую коммуникацию в логике новейшего времени, когда культурная и конфессиональная экспансия означала не меньшее политическое присутствие (в некоторых регионах, как, например, на Ближнем Востоке, она была более значима), чем могли обеспечить политико-дипломатические институты. Проведенное ранее исследование роли церковных структур, связей советских правительственных и общественных структур, прежде всего Православной церкви со странами Восточной Европы – одного из основных локосов советского влияния, показало, что «на завершающем этапе войны в Москве определили конкретные направления зарубежной деятельности РПЦ. Главная цель заключалась в формировании новых каналов советского влияния за рубежом и содействии решению приоритетных внешнеполитических задач государства…» ( Волокитина и др., 2009, с. 777).
Церковная дипломатия – явление историческое, не советское. В контексте послевоенного мироустройства она лишь получила новое звучание, новые цели и масштабы ( Каиль , 2017, с. 19–40). Эти масштабы как раз требовали, пользуясь советизмом, «кадрового обеспечения» (новая модель государственно-церковных отношений, установленная после 1943 г., практически ограничивала действие положений Конституции 1936 г. об отделении церкви от государства). Церковь, фактически обескровленная репрессиями, пик которых пришелся на вторую половину 1930-х гг., не могла обеспечить все возрастающие потребности в церковных дипломатах, представителях и эмиссарах. В этой связи и была осознана необходимость экстренной реконструкции системы подготовки церковных кадров, причем наиболее образованных – обладающих всем комплексом церковно-канонического, вероучительного знания, широким общественно-церковным кругозором. Этот уровень могли обеспечить только прежние духовные академии. Церковная инициатива по их открытию (на первых этапах ограниченная масштабом
«богословских курсов») возникла сразу, но советский аппарат, настроенный многолетней традицией нажима на церковь, не поддавался: восстановление академий представляло собой процесс, прорывы в котором, как оказывается, коррелировали с успехами Московской патриархии на международной арене.
Духовные академии. Разрушение структур и традиции
Пореволюционный Петроград являлся центром российского богословского образования. К началу военного времени в Петербургской духовной академии обучалось свыше 300 студентов (столько же и в семинарии). Академия была центром духовной науки: здесь готовились и публиковались научно-богословские исследования, большинство обучающихся получали ученые богословские степени. В этом смысле высшая духовная школа питала иерархию и формировала слой образованной церковной интеллигенции, в которой формулировались ключевые для церковного развития идеи. О значении академической среды свидетельствует наличие на открывшемся в 1917 г. Поместном соборе отчетливо обозначенной «академической» группы из профессуры – наиболее образованного слоя соборян, формирующего фундаментальные основания соборных суждений, определений и комиссионных рассмотрений.
Именно в академической среде формировался интеллектуальный ответ церкви на большевистскую секулярную программу, в том числе изъятие церковного образования. Одним из первых высказываний этого плана стала аналитическая статья доцента Петроградской духовной академии А. И. Сагады о значении ключевого советского декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» ( Сагада , 1918, с. 252–254).
Работавший в то же время Поместный собор после суждений, сформулированных представителями академий, принял решение о духовно-учебных заведениях, предполагавшее учреждение двух их типов: пастырских училищ с семинарским курсом дисциплин и училищ с неполным богословским образованием (Священному Собору…, 1918).
В соответствии с «Декретом об отделении церкви от государства…» реализовывалась программа закрытия структур церковного образования. Духовные академии были закрыты в 1918 г.
В Петрограде на протяжении января - марта 1918 г. вопрос о судьбе Петроградской духовной академии получил необычное развитие: возник довольно продуктивный и на начальном этапе одобренный всеми сторонами переговорного процесса план объединения академии с Петроградским университетом в форме богословского факультета, но с сохранением обособленной инфраструктуры и своим планом развития [ Богданова , Клементьев , 2004]. Однако к апрелю Наркомпрос занял более жесткую позицию, заявив, что «академия как таковая не является потребностью современного государственного строя и подлежит закрытию, а здание ее – ликвидации». Светские газеты свидетельствовали о «конфликте подчиненности»: академия мыслила себя подотчетной лишь патриарху, тогда как за материальными ресурсами вынуждена была обращаться к советскому Наркомпросу (Новые ведомости, 1918). Подобные попытки спасения путем вливания в университеты предпринимались духовными академиями в Москве и Казани, но в этих случаях академии встретили фактический отказ университетов.
17 февраля 1918 г. на акте, посвященном 109-летию Петербургской академии, был констатирован вопрос о дальнейшем ее существовании. Переговоры о слиянии Духовной академии с университетом осуществлялось, прежде всего, между Н. Н. Глубоковским и Н. Я. Марром.
Положение Московской духовной академии в революционную пору также быстро менялось. Дважды в течение 1917 г. сменилось академическое руководство. В сентябре 1917 г. состоялись выборы ректора, на которых был избран профессор кафедры истории и обличения западных исповеданий Анатолий Петрович Орлов. Московская академия держалась до 1919 г. В конце зимы профессор С. С. Глаголев писал: «Умирающая Академия блуждает… Трудно было пережить эту зиму. Нам грозил мрак (керосина не было), холод и голод…» [ Тарасова , 2005, с. 429]. Вскоре занятия прекратились, но отдельные преподаватели продолжали занятия частным порядком до 1924 г.
Предпринимались попытки формирования новых образовательных центров. Так, архиепископ Феодор (Поздеевский) основал Высшую богословскую школу в Москве, а протоиерей Анатолий Орлов после закрытия академии - свой центр в епархиальном доме в Лиховом переулке (История Московской духовной академии).
В то же время в Петрограде образовательная практика сохранилась в формате курсов, действовавших с октября 1918 г. (РГИА. Ф. 815. Оп. 11 (1918 г.). Д. 96. Л. 11–12). С 1920 г. работали Петроградский богословский институт (в начале 1920-х гг. он сосредотачивал свыше 200 обучающихся) [ Бовкало , 1998, с. 505] и параллельно Богословско-пастырское училище в Александро-Невской лавре (вплоть до 1928 г.).
Петроградский богословский институт проработал до 1923 г., и финал его истории отражает положение духовного образования всей довоенной поры. По сути, вуз заявил о саморо-спуске в мае 1923 г. в связи с распространением обновленчества и стремлением избежать подчинения обновленческим структурам. Достаточно сказать, что руководство институтом до своего ареста 30 мая 1922 г. осуществлял протоиерей Николай (Чуков), будущий митрополит Ленинградский и Новгородский, глава Учебного комитета РПЦ и активный деятель послевоенной церковной дипломатии. Уже в момент открытия института отец Николай отметил в своем дневнике: «Все приветствия возлагают так много упований на институт, видимо, так больно всем отсутствие истинных пастырей, так необходима наиболее жизненная подготовка их, что задачи института ярко встали перед нами, все огромное значение его осозналось сразу, и ответственность громадная тоже ясно стала перед нами» [ Александрова-Чукова , 2007, с. 63].
Исполняющий обязанности ректора (после ареста Чукова) И. П. Щербов возглавил ликвидационную комиссию, оперативно и настойчиво решая все вопросы, касающиеся ликвидации. Ее основным мотивом было нежелание переходить в подчинение обновленцев (после закрытия академий до 1930 г. действовал лишь Высший богословский институт в ведении обновленцев). Из 19 преподавателей института в последующие годы 13 были репрессированы. В открытой после войны Ленинградской духовной академии из их числа будут трудиться лишь профессор Н. Д. Успенский (1900–1987) и сотрудница заочного сектора Е. Л. Ассанович [ Сорокин , 2005, с. 286].
Однако децентрализованные формы религиозного образования все же сохранялись. Так, в 1925 г. Высшие богословские курсы возглавил протоиерей Николай Чуков. Ленинград же в конце 1920-х гг. оставался центром церковного образования: здесь действовали различные кружки, религиозные курсы, общества и братства [ Шкаровский , 2015]. Лишь немногие из них продолжили работу до конца 1920-х гг. После «великого перелома» с проведением жесткой внутренней политики инициативные институты церковного образования ликвидировались. При этом должно отметить, что с закрытием академий систематического богословского образования и не формировалось.
В 1930-е гг. произошло фактически полное рассеяние академической преподавательской корпорации. И именно это ставит вопрос о преемственности традиции или ее утрате в деле высшего духовного образования в послевоенной церкви. Раскрыть эту проблематику позволит лишь скрупулезный анализ биографий всех представителей корпорации, их бытования в 1920– 1930-х гг. Судьбы представителей академической профессорской корпорации были разными. Некоторые преподаватели эмигрировали и даже занимались организацией богословского образования в странах пребывания. Так, профессор Петербургской академии Н. Н. Глубоковский (1863–1937) участвовал в основании богословского факультета Софийского университета. Однако судьбы большинства оказались еще сложнее.
Новое рождение. Духовная академия в послевоенной Москве
Воссоздание академического духовного образования приходится на 1944–1946(8) гг. и начинается с возрождения предакадемических форм высшего духовного образования, а затем и академий в Ленинграде и Москве. Открытию духовных академий предшествовали те же этапы, которые последовали их закрытию в постреволюционный период. Так, в 1944 г. в Москве начинают работу Богословский институт и Пастырско-богословские курсы.
28 ноября 1943 г. Совнаркомом было принято Постановление № 1324 об открытии в Москве Богословского института и пастырских курсов. В декабре в только что воссозданном «Журнале Московской Патриархии» (Прием студентов…, 1943, с. 4) было опубликовано сообщение о приеме слушателей с января 1944 г. Центром организации учебных заведений стал Новодевичий монастырь [Евфимий (Моисеев), 2010]. Руководить учебными заведениями патриархом Алексием был поставлен закончивший курс Киевской духовной академии с магистерской степенью (1901 г.) Сергей Васильевич Савинский (1877–1954). Савинский выступил организа- тором первых духовных школ Москвы. При этом острота кадровой проблемы и специфика подбора кадров были таковы, что данное назначение патриархом было сделано по обращению самого Савинского. 12 октября 1943 г. он направил патриарху собственноручное письмо: «Имея искренне желание поработать на пользу Православной Русской Церкви в новых условиях ее существования, прошу иметь меня в виду в качестве лектора-преподавателя организуемых при Св. Синоде богословских курсов, а также вообще использовать мой опыт и знания на какой-либо должности при Св. Синоде по Вашему усмотрению». Надо отметить, что значительного административного опыта у соискателя как раз не было: 15 лет Савинский трудился преподавателем в Черниговской семинарии, около трех лет, с 1915 по 1918 г., ее инспектором, а далее – работа «в различных организациях в Москве» (АМПДА. Дело «Савинский С.В.». Л. 2).
В декабре 1943 г. С. В. Савинскому Управделами Московской патриархии была выдана справка, удостоверяющая его назначение на должность проректора Богословского института и Богословско-Пастырских курсов, с поручением скорейшего начала подготовки. В Богословском институте в статусе проректора Савинскому, по сути, была поручена вся учебная работа. Важной советской «проверкой» Сергея Васильевича было включение его в состав патриаршей делегации в Белград в апреле 1944 г. (АМПДА. Дело «Савинский С.В.». Л. 4 об.). Прохождение согласований и разрешение (в органах МГБ и структурах правительства) на участие в официальной делегации в ту пору означало включение в негласный резерв управленческих кадров патриархии. Препятствий патриаршему назначенцу фактически не чинили, соглашаясь с представлением персоны на ту или иную ответственную церковную должность. Впоследствии именно Савинскому было поручено и настоятельство в Академическом храме, остававшемся в Новодевичьем монастыре, вплоть до освещения патриархом Алексием Академического храма в Свято-Троицкой лавре в 1954 г.
В первые месяцы патриаршества Алексия I в его установившейся переписке с председателем Совета по делам РПЦ Г. Г. Карповым появляется и постоянно присутствует тема расширения инфраструктуры церковной высшей школы. Патриарх просит для Богословского института передать Успенскую трапезную церковь Новодевичьего монастыря. Международный контекст развития высшей духовной школы в Москве высказывается патриархом довольно прямо: «В деле духовного просвещения и объединения церковных сил всего православного мира особенно важная роль выпадет на долю Православного богословского института, который в течение ближайших лет должен стать не только рассадником пастырских кадров для нашей Церкви, но и центром научно-богословской мысли Вселенского православия, о чем, между прочим, свидетельствует и желание зарубежных церквей посылать к нам своих студентов для обучения» (Письма патриарха Алексия I…, 2009, с. 45).
Решение СНК по этому вопросу состоялось уже 5 июля 1945 г. Историк Московской духовной академии (МДА), заведующий кафедрой церковной истории современной МДА А. К. Светозарский обоснованно считает, что именно первая зарубежная миссия патриарха Алексия на православный Восток, состоявшаяся в мае - июне 1945 г., была решающим фактором в расширении инфраструктуры Богословского института в Москве [ Светозарский , 2019, с. 83]. В этом убеждает и изучение логики и восприятия правительством СССР всей череды дипломатических миссий РПЦ той поры [Там же]. Достаточно сказать, что Преображенский и Успенский храмы, открытые при Богословском институте, были первыми вновь открытыми в Москве.
Успенский храм стал и центром церковного просвещения – будущий отец ректор Александр Смирнов вел лекторий, на эти духовные беседы приглашались прибывающие в Москву делегации (Алексий…, 1999, с. 84).
В августе 1945 г. патриарх ставит перед Г. Г. Карповым вопрос о передаче части зданий Троице-Сергиевой лавры церкви – по сути, прямо ставит вопрос о воссоздании в Лавре «центра богословской науки» (Письма патриарха Алексия I…, 2009, с. 67–69, 149). Богослужебная жизнь возобновится в Лавре в апреле 1946 г., но возрожденные к началу 1946/1947 учебного года академия и семинария перебрались в Лавру лишь к осени 1948 г.
Однако ведущее руководство протоакадемией в Москве было поручено лицу со значительно большим, хотя и далеко неоднозначным, церковно-административным опытом. Так, в начале января 1944 г. в заседании Священного Синода покаяние в обновленчестве принес об- новленческий «митрополит Тульский», управлявший и рядом обновленческих храмов Москвы, Тихон (Попов) (1876–1962). Тогда он был принят в общение в сане протоиерея и назначен настоятелем в один из находившихся и ранее под его контролем Храм Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище [Святозарский, 2010]. Уже в августе 1944 г. он был назначен ректором Богословского института и пастырских курсов и оставался в должности вплоть до их преобразования в Московскую духовную академию в 1946 г.
Сергей Васильевич Савинский в 1947 г. был последовательно рукоположен в дьякона и пресвитера, возведен в сан протоиерея и награжден крестом и камилавкой (АМПДА. Дело «Са-винский С.В.». Л. 105). В том же году ему довелось несколько месяцев возглавлять МДА в качестве и.о. ректора после смерти ректора протоиерея Николая Чепурина. В качестве ректора о. Сергия сменил еще один в прошлом видный деятель обновленчества владыка Гермоген (Кожин), совмещавший ректорство с управлением Казанской епархией. Его перевод на Кубанскую кафедру в августе 1949 г. и невозможность совмещения столь разнонаправленных церковных послушаний повлекли назначение ректором Александра Павловича Смирнова (1888–1950), как и все первые ректоры, возглавлявшего академию очень недолго, вплоть до своей скоропостижной смерти в сентябре 1950 г.
Александр Павлович обладал в церкви высоким авторитетом. Родившийся в Симбирске (Ульяновске) в священнической семье Смирнов был выпускником Петербургской духовной академии. К 1949 г. он уже 36 лет священствовал в Москве, принимал участие в подготовке знаковой книги «Правда о религии в России» (1942). Отец Александр также прошел «проверку» участием в церковно-дипломатических миссиях: в 1945 г. он был в составе делегации в Бухаресте, а в 1946 г. – в Будапеште. С 1944 г. преподавал катехизис и священную историю в Богословском институте (АМПДА. Дело «Смирнов А.П.». Л. 4).
В направленном ему поздравлении Ташкентский владыка Гурий (Егоров), бывший наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры сразу после ее открытия в 1945–1946 гг., писал: «Я искренне обрадовался, узнав, что Святейший так мудро разрешил трудный вопрос о ректоре. Вы пользуетесь в Русской Церкви огромной известностью и завоевали симпатию всех, знающих Вас лично» (АМПДА. Дело «Смирнов А.П.». Л. 1).
Послевоенное время характеризовалось отсутствием документов: на руках у большинства священников не осталось документов об образовании и ученых степенях. Ректор Смирнов также восстанавливал эти документы уже после своего назначения – в конце 1949–1950 гг. (АМПДА. Дело «Смирнов А.П.». Л. 6–7).
Степень незабюрократизированности ранней духовной академии была такова, что действующему ректору приходилось в полном смысле держать квалификационный экзамен (!) на знание древних языков перед комиссией вверенных ему преподавателей. Так, профессор о. Дмитрий Боголюбов и доцент о. Николай Никольский экзаменовали ректора по древнееврейскому (АМПДА. Дело «Смирнов А.П.». Л. 8). Отец ректор не оставлял и собственных научных занятий, знакомился с опытом Ленинградской духовной академии в части организации в ней библиотечного дела, для чего командировался в Ленинград в июле 1950 г.
Последние месяцы жизни отца ректора были омрачены неприятными событиями, связанными с его кандидатской диссертацией 1913 г. «Via Dolorosa – крестный путь Христа Спасителя от воплощения до Голгофы и царственная победа его над миром». Документов о диссертации не нашлось, и после переданного недовольства Г. Г. Карпова ректор даже вынес на рассмотрение совета Ленинградской духовной академии новое сочинение «Гносеологическая и воспитательная ценность художественного слова и его роль в раскрытии многогранной христианской истины», крайне неоднозначно оцененное коллегами по корпорации (АМПДА. Дело «Смирнов А.П.». Л. 55–56, 58–62). Вопрос о степени обсуждался патриархом, вероятно, после вмешательства которого второй защиты не последовало. В сентябре 1950 г. отец ректор испрашивал вмешательства патриарха в вопрос о выделении ему с семьей квартиры в Загорске (очевидно, постоянное перемещение из Москвы утомляло). Через неделю о. Александр скоропостижно скончался (АМПДА. Дело «Смирнов А.П.». Л. 35).
К 1950 г., подводящему итоги первого послевоенного периода высшей духовной школы Москвы, известно, что в академии и семинарии обучалось 204 человека. Академия была совсем небольшой: на четырех курсах обучалось 47 человек. При этом более-менее масштабные прие- мы состоялись лишь в 1948 г. – 16 человек и в 1949 г. – 15 человек. На старших курсах академии проходили обучение 9 и 7 человек (АМПДА. Дело «Разные сведения…». Л. 1–2). В это время в академии учился будущий всероссийский старец о. Иоанн Крестьянкин (1910–2006), на первый курс был зачислен будущий глава Иерусалимской духовной миссии и наместник Трои-це-Сергиевой лавры и архиепископ Пимен (Хмелевский) (1923–1993). В конце 1940-х гг. Совет по делам РПЦ начал рассматривать академию как кузницу кадров для церковной дипломатической миссии. Об этом свидетельствуют и пример иеромонаха Пимена, и косвенно арест в 1950 г. по доносу о. Иоанна (Крестьянкина). Контроль за самостоятельно мыслящими харизматиками в академии явно усиливался.
Одним из важнейших факторов в развитии церковной образовательной инфраструктуры и возвращении храмовых зданий и монастырей была реализация плана проведения в Москве Вселенского предсоборного совещания, впоследствии трансформировавшегося во Всеправо-славное совещание. Задуманное в 1945 г. мероприятие начали активно готовить в начале 1947 г., рассчитывая на его проведение осенью 1947 г. Церкви в связи с этим планом вернули значимую часть зданий Троице-Сергиевой лавры. Форум состоялся летом 1948 г. в формате Всеправославного совещания и даже в вынужденно измененном формате имел огромный масштаб и международное звучание, а сроки его проведения попадали на день памяти Святого Сергия и предполагали богослужения в Лавре, для многих гостей ассоциировавшейся с дореволюционным центром высшего церковного образования. Международные цели СССР в очередной раз способствовали возвращению Православной церкви ее достояния. На форуме с ключевым докладом о 500-летней истории Русской церкви (от момента автокефалии) выступил доцент МДА Н. И. Муравьев, ректор академии епископ Гермоген (Кожин) представил доклад «Папство и Православная церковь», с докладами выступили профессор В. С. Вертоградов и доцент А. И. Георгиевский. Академия впервые предстала как центр мирового богословия [ Васильева , 2001, с. 150–179]. Прямым следствием форума стали первые поступления в МДА и МДС обучающихся из поместных православных церквей, начавшиеся в 1949–1950 гг. и заложившие основу традиции подготовки духовными школами России церковной образованной элиты поместных православных церквей.
14 октября 1948 г., на Покров – в академический праздник, академия вернулась в Лавру.
Второе рождение. Духовная академия на берегах Невы
Ленинградская духовная академия возобновила свою работу также на Покров – 14 октября 1946 г., что во многом было связано как с переговорной позицией патриарха Алексия, так и с деятельностью митрополита Ленинградского Григория (Чукова), выступавшего в качестве церковного дипломата. Плотность церковно-дипломатических миссий владыки Григория впечатляет. В марте 1945 г. он совершил миссию в Эстонию, возвратив из юрисдикции Константинополя местных клириков. В апреле возглавил делегацию в Болгарию с миссией по возобновлению общения с Болгарской православной церковью. В октябре 1945 г. совершил миссию в Финляндию, результатом которой был переход финских приходов в юрисдикцию Московской патриархии. В апреле 1946 г. возглавил Учебный комитет РПЦ и в новом качестве добивался преобразования открытых в Ленинграде богословско-пастырских курсов в семинарию и открытия академии. В августе 1946 г. возглавил делегацию в Париж, где отпевал скончавшегося митрополита Евлогия (Георгиевского), за несколько месяцев до смерти перешедшего в юрисдикцию Московской патриархии. В ноябре - декабре 1946 г. возглавлял делегацию на Ближний Восток, по масштабам повторившую первую миссию патриарха Алексия 1945 г., встречался с патриархами Александрийским, Иерусалимским, Антиохийским [ Каиль , 2021, с. 236–244]. Такая программа церковно-дипломатических миссий митрополита определила огромный политический вес и влияние митрополита, позволявшего себе во многом игнорировать требования всесильных в отдельных епархиях уполномоченных Совета по делам РПЦ в кадровых вопросах (ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 1. Д. 1251. Л. 45-46; Оп. 7. Д. 35). Уже с сентября 1943 г. владыка Григорий фактически возглавлял церковную работу в области образования, за несколько дней сентября разработал и представил патриарху Сергию проект богословско-пастырских курсов как модели воссоздания среднего духовного образования. В одном из первых номеров возрожденного «Журнала Московской Патриархии» владыка представил свою концепцию духовного образования в контексте времени ( Григорий (Чуков) , 1943, с. 22–24). В возглавленной владыкой
Григорием Ленинградской духовной школе особенно обстоятельно размышляли о путях и возможностях строительства духовной школы в текущих советских реалиях. Так, инспектор Богословского института А. В. Ведерников отмечал «богословскую неподготовленность тех, кто стремился поступить...» на обучение [ Шкаровский , 2015, с. 373].
В результате этого осмысления была построена современная модель духовного образования (семинарии - академии) с четырехлетним циклом в каждой ступени и включением в учебный план академии широкого круга развивающих дисциплин, логики, психологии, христианской педагогики, большого спектра языковой подготовки ( Григорий (Чуков) , 1946). Усилия отцов-основателей новой (возрождаемой) богословской школы в СССР были высоко оценены и в русском церковном зарубежье ( Шмеман, 1957).
При этом социально-бытовые трудности в организации высшей духовной школы на Неве отнюдь не отменялись ни влиянием, ни ценностью владыки Григория для советской дипломатии. На протяжении месяцев приходилось бороться за освобождение де-юре переданного Богословскому институту здания на набережной Обводного канала, 19. После передачи полуразрушенного бомбардировками здания на собранные средства было проведено его восстановление [ Шкаровский , 2015, с. 377].
С большими сложностями владыка Григорий сформировал штат первых преподавателей. В Ленинграде власти заняли жесткую позицию по недопущению ранее осужденных лиц к преподаванию. В итоге первыми преподавателями стали кандидаты богословия Н. Д. Успенский, прот. Сергий Ломакин, о. Василий Раевский, прот. Павел Фруктовский и не имевший степени прот. Сергий Румянцев. Из 42 записавшихся на экзамены в 1945 г. были зачислены 24 человека [ Сорокин , 2005, с. 478], занятия начались в ноябре.
Ленинградская духовная школа стала первой международной. В связи с управляемым владыкой Григорием огромным диоцезом в феврале 1946 г. Совет по делам РПЦ разрешил ему готовить десять первых эстонских священников. Владыка Григорий пекся и о составе преподавателей, приложив немало усилий к тому, чтобы перевести из Таллина о. Иоанна Богоявленского в качестве ректора курсов.
6 июня 1946 г. состоялось решение об открытии двух духовных академий и преобразовании Богословско-пастырских курсов в восьми городах СССР в семинарии. Возникли планы кадрового обогащения становящейся полноценной духовной школы с приглашением в качестве преподавателей академий прот. Георгия Шавельского из Болгарии, проф. С. В. Троицкого из Югославии, прот. С. Четверикова из Чехословакии и даже В. Н. Лосского и Н. А. Полторацкого из Франции. Этот шаг должен был способствовать не только кадровому усилению академий, но и интернализации духовной школы, однако был заблокирован правительством СССР, ограничивавшим взаимодействием с заграницей (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 80. Л. 153).
В 1946 г. в Ленинградскую академию были приняты 17 студентов, из них пятеро - священники, в том числе Тартусский - Иоанн Вахер. В 1947 г. в семинарию поступил первый иностранец - чех Радивой Яковлевич. Примечательно, что на торжественном акте в честь открытия Ленинградской академии 14 октября 1946 г. присутствовал гость из США - архиепископ Филадельфийский и Карпаторусский Адам (Филипповский-Филипенко). С первых дней в новом статусе Ленинградская академия становилась одной из «международных витрин» Русской православной церкви, обеспечивая возможности для приема многочисленных иностранных делегаций, актовых встреч и лекций для прибывающих иерархов, а также вручения почетных научных степеней. Один из первых визитов в академию, имевших значительный международный резонанс, в ноябре 1947 г. нанес митрополит Гор Ливанских Илия (Карам) (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 66. Л. 152-153).
Высшая духовная школа и внешнецерковные связи: заключение
Реализация Русской православной церковью масштабной внешнеполитической миссии в послевоенном СССР стала ведущим фактором в расширении возможностей церкви в стране, в том числе реконструкции системы церковного высшего образования и богословских школ. Фактически полная ликвидация структур церковного образования и критическое сокращение епископата и клира создавали риски для выполнения публичной дипломатической функции, делегированной РПЦ правительством СССР. Государство принимало все разумные доводы и аргументы патриархов Сергия и Алексия о необходимости реконструкции всех систем церковного организ- ма. И одной из первых подлежащих восстановлению была образовательная. Церковное управление повело осторожный диалог о запуске первых двух Богословских институтов (прототипа академий) в Москве и Ленинграде и пастырско-богословских курсов в ряде городов. По мере же расширения церковно-дипломатических миссий удалось поставить и успешно решить вопрос и о реконструкции духовных академий, воссозданных в 1946 г. в Москве и Ленинграде. Они выполняли, помимо прямого назначения – подготовки квалифицированных священнических кадров, становящихся резервом для епископских хиротоний, еще и миссию интернационализации православия – распространения православного влияния Московской патриархии (согласующей действия с советским правительством) на территории политико-дипломатического присутствия СССР. Церковные связи, задействование фактора культурно-религиозной идентичности в странах соцлагеря стали важной основой, цементирующей послевоенный мир с новой позицией в нем СССР.
Фактически с момента воссоздания духовные академии в Москве и Ленинграде стали центрами подготовки образованных кадров для дружественных поместных православных церквей, а также важными структурными элементами «фасадной» церковной дипломатии – центрами богословской науки и площадками для приема иностранных делегаций, посещение которых сближало и убеждало гостей в мощи российского православия, состоящего в союзе с советским правительством.
Список литературы (Вос-)создание российской высшей духовной школы в контексте реализации дипломатической миссии Московской патриархии послевоенного периода
- Александрова-Чукова Л.К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды. К 50-летию преставления // Санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2007. Вып. 34. С. 17-131.
- Бовкало А.А. Последний год существования Петроградского Богословского института // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 24. СПб., 1998. С. 484-549. EDN: YWPYWX
- Богданова Т.А., Клементьев А.К. Н.Н. Глубоковский и неудавшаяся попытка объединения в 1918 г. Петроградской Духовной академии и Петроградского университета // Журнал Санкт-Петербургского университета. 2004. № 7. С. 42-45.
- Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в политике советского государства в 1943-1948 гг. М.: ИРИ РАН, 2001. С. 150-179. EDN: WGWDAL
- Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40-50-х годов ХХ века: очерки истории. М.: РОССПЭН, 2009. 807 с.