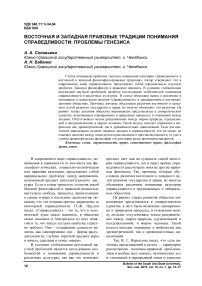Восточная и западная правовые традиции понимания справедливости: проблемы генезиса
Автор: Соловьева Алина Антоновна, Бабенко Андрей Николаевич
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 1 т.15, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме генезиса понимания категории справедливости в восточной и западной философско-правовых традициях. Автор утверждает, что в современном мире справедливость представляет собой кардинальную научную проблему, базовую философскую и правовую ценность. В условиях глобализации актуальной научной проблемой является исследование особенностей понимания справедливости в различных культурах. В статье обоснован вывод о различиях в понимании и осмыслении понятия «справедливость» в традиционном и посттрадиционном обществах. Причины, которые обусловили различия восточного и западного путей развития государства и права, во многом объясняют эти различия. На ранних этапах развития общества миропорядок представлялся в синкретическом единстве, включающем одновременно и природные процессы, и отношения между людьми. Отсутствовало четкое разграничение между миром природы, одушевленной и неодушевленной, и миром человека. Такой подход находит отражение в мифологии как древнегреческой, так и древневосточных цивилизаций. Если для восточной цивилизации отличие писаных законов и справедливости, тем не менее, не означает наличия между ними резкого расхождения и противоположности, то уже в учении древнегреческих философов эти категории резко противопоставляются.
Справедливость, право, естественное право, философия права, закон
Короткий адрес: https://sciup.org/147149965
IDR: 147149965 | УДК: 340.11:1+34.04
Текст научной статьи Восточная и западная правовые традиции понимания справедливости: проблемы генезиса
В современном мире справедливость, понимаемая в зависимости от контекста как философско-этическая, социально-политическая или правовая категория, представляет собой кардинальную проблему, центр напряжения, неизменный предмет интеллектуального дискурса. Если в конце прошлого столетия такой базовой философской и правовой ценностью выступала свобода, процессы, происходящие в стране и мире в последние десятилетия, показали, что эти позиции прочно закреплены за категорией справедливости. П.-Ж. Прудон писал: «Справедливость – это то, что в человеческой душе самое исконное, в обществе самое основное и благородное из всех понятий и то, что массы сегодня наиболее страстно требуют. Оно – содержание сущности религии, как одновременно оно – форма рассудительности, глубоко скрытый предмет веры и начало, середина и конец знания».
В условиях глобализации актуальной научной проблемой является исследование особенностей в понимании справедливости в различных культурах, так как это позволяет 12
пролить свет как на сущность самой категории справедливости, так и через призму справедливости рассмотреть многие другие правовые феномены. Так, причины, которые обусловили различия восточного и западного путей развития государства и права, во многом объясняют различное понимание категории справедливости в традиционных и либеральных обществах.
На ранних этапах развития общества миропорядок представлялся в синкретическом единстве, в него были включены одновременно и природные процессы, и отношения между людьми: отсутствовало четкое разграничение между миром природы, одушевленной и неодушевленной, и миром человека. Такой подход находит отражение в мифологии как древнегреческой, так и древневосточных цивилизаций.
Так, В. С. Нерсесянц писал, что «для античных представлений в целом … характерно рассмотрение политико-правовой проблематики и вообще всех земных, человеческих дел и отношений в неразрывной связи и единстве с глобальными, космическими процессами» [10, с. 88]. Анаксимандр (ок. 610–546 гг. до н. э.), к примеру, органически связывал общество и космос, полисный порядок, правосудие и мировой строй вещей [4, с. 9]. Гераклиту (ок. 544-483 гг. до н. э.) принадлежит концепция обусловленности полисных законов объективными общемировыми закономерностями [10, с. 88]. Для Горгия писаные законы, «стражи справедливости», – искусное человеческое изобретение, то есть нечто искусственное. От писаного закона он отличал неписаную «справедливость», которая характеризуется им как «сущность дел», «божественный всеобщий закон». Демокрит (ок. 460– 371 гг. до н. э.) утверждал, что справедливость имеет объективный характер, неотделима от природы, выражает ее сущность. Эта объективная основа справедливости рассматривается Демокритом как наиболее прочное основание поступков людей [7, с. 159].
Реализация справедливости в традиционных культурах также мыслится в категориях запредельного мира. В исламе справедливость восторжествует в Судный день, когда Бог воздаст человеку за его земные добродетели и грехи. Не человек и общество, а только Бог до конца справедлив: «Тем, которые добро дея-ли, – доброе и придача; и не покроет их лица пыль и унижение. Это – обитатели рая, в нем они пребывают вечно. А те, которые приобрели злые деяния ... воздаяние за злое деяние – подобным ему. И постигнет их унижение; нет у них никакого защитника от Аллаха! Их лица покрыты точно кусками мрачной ночи. Это – обитатели огня, в нем они пребывают вечно» (Коран, 10:27–28) [14].
Согласно индийскому учению о сансаре – переселении душ после смерти, мыслимой как отмирание телесной оболочки, душа переходит в иную телесную форму: человека, более низкого или более высокого положения, животного, насекомого, растения или даже небожителя. Переход совершается в зависимости от кармы (деяний) – так свершается справедливость. Для китайской традиции характерна ретроспективная ориентация. Исходной точкой всех проектов лучшего мироустройства и достижения высшей справедливости (Датун – «Великая Гармония» или Тайпин – «Великое Равновесие») является идея возврата к порядкам «золотого века» далекого прошлого [14].
Значение мифологических оснований правовых представлений древних подчеркивает И. П. Малинова, справедливо отмечая, что «именно в ментальных схемах древнегреческой мифологии следует искать истоки будущего торжества философского дискурса, что возникновение древнегреческой философии было обусловлено не только специфическими обстоятельствами экономического, социального, интеллектуального и т. д. характера, но и не в последнюю очередь, уникальными особенностями древнегреческой мифологии» [6, с. 14].
Согласно «Теогонии» Гесиода (VIII– VII вв. до н. э.), Дике («справедливость») и Эвномия («благозаконие») - дочери Зевса и Фемиды - упорядочивают жизнь человека, вносят в нее установленную периодичность, наблюдают за ее закономерным течением [8, с. 160]. В различении смыслов имен дочерей Зевса П. Г. Редкин видит «зачатки двух понятий, проходящих через всю историю греческой философии права: понятие о праве по природе или естеству [«фюсис» – прим. наше. – А. С.] и понятие о праве по человеческому положению или установлению [«номос» – прим. наше. – А. С.] или понятия о естественном и положительном праве…» [12, с. 395].
В дальнейшем проблема «фюсис – номос» находит отражение в ранней греческой философии. До появления учений софистов «номос» и «фюсис» рассматривались как независимые, но непротиворечивые начала, которые поддерживают единый божественно установленный порядок. Поэтому нельзя безоговорочно согласиться с замечанием А. В. Ахутина, что в тот период «каждый человек принадлежит сразу к двум мирам – миру местности и миру общины» [1, с. 116]. «Номос» и «фюсис» рассматривались как основа единого природного и социального организма. Несмотря на то, что концепция «номос», возникшая для обозначения божественного закона, постепенно теряла религиозные аспекты, «номос» все же понимался как установление, вызывающее одобрение богов [13, с. 20], отклонение от него вело к нарушению единого справедливого порядка.
Таким образом, для философов докласси-ческого периода отличие писаных законов от справедливости, тем не менее, не означает наличия между ними резкого расхождения и противоположности. Такое понимание нахо- дит отражение в историко-правовой литературе. О. А. Омельченко отмечает, что законы, даже установленные волей одного человека или принятые в результате голосования, обозначали и справедливость с точки зрения религиозной и полисной морали [11, с. 122]. На то, что в Древней Греции «право» и «справедливость» практически отождествлялись, указывает, к примеру, В. А. Четвернин [15, с. 54].
Такое понимание находит отражение в особой организации полиса и полисном сознании граждан. Письменное законодательство Солона (ок. 635-559 гг. до н. э.), во-первых, ограничивало власть противоборствующих общественных групп. Сдерживающая сила законов воспринималась как основа справедливого порядка, который ассоциировался с «мерой» и «серединой» [10, с. 86]. Во-вторых, реформы Солона позволили сконструировать циклическую систему перехода власти от одной группы к другой, от одного лица к другому [3, с. 124]. Благодаря равновесию взаимо-обратимого отношения управления и подчинения полис представлялся как неизменный гармоничный мир, часть космоса, в котором действуют те же общемировые законы. Отношение к полисным законам как к приложению требований справедливого мирового порядка позволяет говорить об отсутствии в полисе юридического представления о законах и праве [11, с. 122].
Согласно донаучным представлениям, распространенным в древнегреческом обществе, человеческие законы в полной мере соответствовали вечному неизменному космическому порядку. Такое понимание естественно следовало из природы древних законов, основывающихся на древних обычаях. Г. С. Мэн первым различил в древнем законе продолжение, слагаемое и вместе с тем – отрицание обычая [9, с. 7].
Однако постепенно, когда такие законы уже не могли эффективно регулировать развивающиеся отношения и требовали существенных дополнений, а новые законы теряли сакральный характер, происходил процесс осознания противоречий между законами, созданными людьми, и новыми представлениями о справедливости. Отрицание утверждения, что человеческие законы соответствуют справедливому космическому порядку, происходило в процессе осознания обществом двух противоречий: во-первых, противоречия между новым пониманием справедливости и закрепленным в мифах общемировым порядком, во-вторых, на более высоком уровне -противоречия между пониманием справедливости и законами, принятыми людьми.
Первое противоречие (между новым пониманием справедливости и закрепленным в мифах общемировым порядком) раскрылось в античной трагедии, к которой перешла функция воспитания общества, прежде принадлежавшая мифам [5, с. 23]. Несмотря на эклектичность и бессистемность назидания в трагедии, она являлась одним из средств осознания справедливости древнегреческим обществом. В основе классической античной трагедии -мифологический сюжет, наиболее убедительно опровергающий божественную справедливость [2, с. 197]. Первоначально авторы трагедий стремились примирить представленный в мифах мировой порядок с чувством справедливости. К примеру, Эсхил (ок. 525-456 гг. до н. э.) преобразовывал мифы, чтобы представить рок как правосудие [2, с. 217]. Но преодолеть это противоречие средствами искусства было невозможно. Уже Еврипид (ок. 485-406 гг. до н. э.) отказывается сглаживать несправедливость мифов: слишком велико различие между его взглядами и мифологическими представлениями о мировом порядке. В этом проявляется начало отрицания традиционных мифологических представлений: мировой порядок, которому соответствуют законы, несправедлив. Античная трагедия подготовила кризис писаного закона, «номоса».
Кризис писаного закона «номоса» нашел наиболее полное выражение в учении софистов. Источником государственного управления и законодательства софисты считали человеческое искусство, а не природу. Так, виднейший представитель софистики Протагор (ок. 481-411 гг. до н. э.) подчеркивал изменчивость представлений о справедливости и считал законы мудрыми изобретениями людей. Гиппий (ок. 460–400 г. до н. э.) первым среди софистов резко противопоставил «фю-сис» и «номос». «Фюсис» как природа вещей, веления природы противостоит ошибочному, искусственному человеческому закону [10, с. 92–94].
Представители второго поколения софистов приходят к крайнему противопоставлению «фюсис» и «номос»: «Большею частью они противоречат друг другу, природа и обычай»; закон «самой природы … может и не совпадать с тем законом, какой устанавливаем мы…» (Платон. Горгий; 482е, 483е). Если, как утверждал Протагор, человек есть мера всех вещей, прямым следствием является, что человек также является мерой своей деятельности, принципом которой становится собственная выгода [12, с. 341–342]. Значение философии софистов справедливо определяет И. П. Малинова: «Итоговой формой развития … [правового рационализма] был правовой скептицизм киников, киренаиков и софистов, послуживший ментальным основанием науки о праве. Софисты «развенчивают» право и тем самым создают почву для его анализа – последний невозможен по отношению к сакральному (святому)» [6, с. 16].
Таким образом, можно сделать вывод о различиях в понимании и осмыслении понятия «справедливость» в традиционном и посттрадиционном обществах. Для первого справедливость во многом сводится к поддержанию гармоничности, которая исходно есть, но которую люди нарушили. На Западе, как справедливо утверждает М. Т. Степанянц, принято считать, что ее не существует, пока она не установлена. Чтобы приблизиться к данному идеалу, необходимо движение, прогресс. В этом движении – суть общественной жизни. В восточной культуре – вектор движения совсем иной, справедливость не устанавливается, а восстанавливается как утраченные равновесие или гармония [14]. Однако указанный автор связывает данные различия с тем, что «секуляризация культуры, которой ознаменовано Новое время, обратило упования на справедливость при земном существовании, хотя и будущих поколений». С этим, как представляется, нельзя согласиться. Истоки различий в понимании справедливости гораздо глубже, они берут начало еще в философии Древней Греции.
Список литературы Восточная и западная правовые традиции понимания справедливости: проблемы генезиса
- Ахутин, А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время («фюсис» и «натура»)/А. В. Ахутин. -М.: Наука, 1988. -208 c.
- Боннар, А. Греческая цивилизация. Кн. 1. От Илиады до Парфенона/А. Боннар. -Ростов н/Д.: Феникс, 1994. -Т. 1. -448 c.
- Вернан, Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли/Ж.-П. Вернан. -М.: Прогресс, 1988. -224 c.
- Гринберг, Л. Г. Критика современных буржуазных концепций справедливости/Л. Г. Гринберг, А. И. Новиков. -Ленинград: Наука, 1977. -171 c.
- Козловски, П. Общество и государство: неизбежный дуализм/П. Козловски. -М.: Республика, 1998. -368 с.
- Малинова, И. П. Философия права (от метафизики до герменевтики)/И. П. Малинова. -Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1995. -125 с.
- Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура/под ред. М. А. Дынника. -М.: Госполитиздат, 1955. -239 с.
- Мифологический словарь/гл. ред. Е. М. Мелетинский. -М.: Сов. энциклопедия, 1991. -736 c.
- Мэн, Г. С. Древний закон и обычай. Исследования по истории древнего права/Г. С. Мэн. -М.: Изд. ред. Юридического Вестника, 1884. -312 c.
- Нерсесянц, В. С. Право и закон. Из истории правовых учений/В. С. Нерсесянц. -М.: Наука, 1983. -366 c.
- Омельченко, О. А. Всеобщая история государства и права: учебник: в 2 т./О. А. Омельченко. -М.: Остожье, 1998. -Т. 1. -528 c.
- Редкин, П. Г. Из лекций П. Г. Редкина по истории философии права в связи с историей философии вообще/П. Г. Редкин. -СПб., 1889. -Т. 1. -454 c.
- Синха, С. П. Юриспруденция. Философия права: краткий курс/С. П. Синха. -М.: Издательский центр «Академия», 1996. -284 c.
- Степанянц, М. Т. Россия в диалоге культур Восток-Запад/М. Т. Степанянц. URL: http://dialog-kultur.ru/main.php-G=550500 000&ar3= 200&ID=431220.htm.
- Четвернин, В. А. Понятие права и государства. Введение в курс теории права и государства: учебное пособие/В. А. Четвернин. -М.: Дело, 1997. -120 c.