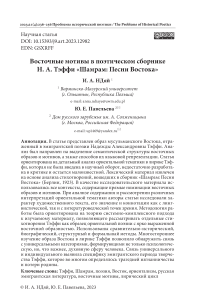Восточные мотивы в поэтическом сборнике Н. А. Тэффи «Шамрам: песни Востока»
Автор: Ндяй И.А., Павельева Ю.Е.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен образ мусульманского Востока, отраженный в эмигрантской поэзии Надежды Александровны Тэффи. Анализ был направлен на выделение семантической структуры восточных образов и мотивов, а также способов их языковой репрезентации. Статья ориентирована на детальный анализ ориентальной тематики в лирике Тэффи, которая не была введена в научный оборот, недостаточно разработана в критике и остается малоизвестной. Лексический материал извлечен на основе анализа стихотворений, вошедших в сборник «Шамрам: Песни Востока» (Берлин, 1923). В качеcтве исследовательского материала использовались все контексты, содержащие прямые номинации восточных образов и мотивов. При анализе содержания и рассмотрении различных интерпретаций ориентальной тематики авторы статьи исследовали характер художественного текста, его значение и коннотации как с лингвистической, так и с литературоведческой точек зрения. Методология работы была ориентирована на теорию системно-комплексного подхода к изучаемому материалу, позволяющего рассматривать отдельные стихотворения Тэффи как образец ориентальной поэзии с ярко выраженной восточной образностью. Использованы сравнительно-исторический, биографический, структурный и формальный методы. Многостороннее изучение образа Востока в лирике Тэффи позволило обнаружить связь с универсальными категориями, формирующими не только психологическую, но, что важнее, духовную сферу человека. Связь универсального и индивидуального выявила специфику эмигрантского периода творчества Тэффи, которое во многом определялось трагедией изгнанничества и потери родины.
Тэффи, шамрам, поэзия, восток, ориентализм, русская эмигрантская литература, восточные мотивы, лирический цикл
Короткий адрес: https://sciup.org/147242333
IDR: 147242333 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12982
Текст научной статьи Восточные мотивы в поэтическом сборнике Н. А. Тэффи «Шамрам: песни Востока»
К ультура, традиции и быт народов Ближнего и Дальнего
Востока привлекали внимание российских писателей и поэтов на протяжении долгого времени. Можно отметить, например, перевод Н. М. Карамзина драмы Калидасы «Узнанная (по кольцу) Шакунтала»1, произведения А. С. Пушкина («Путешествие в Арзурум во время похода 1829 года», «Подражание Корану», «Пророк», «Анчар»), поэзию А. С. Грибоедова, К. Ф. Рылеева, Ф. И. Тютчева или дневники путешествий по Африке и Японии И. А. Гончарова («Фрегат "Паллада"»). Увлечение восточной культурой нашло отражение в философских размышлениях Л. Н. Толстого и катастрофических предвидениях А. А. Блока («Песня судьбы», «На поле Куликовом», «Возмездие»).
Внимание к восточной культуре особенно ярко проявилось на рубеже XIX–XX вв.: К. Д. Бальмонт интерес к странам Востока (Египту, Индии, Китаю и др.) выразил и в своих оригинальных произведениях, и в многочисленных переводах, в том числе и пьесы Калидасы, к которой обращался Карамзин. В начале ХХ в. мусульманский Восток стал источником вдохновения для теоретиков кубофутуризма, авторов поэтических манифестов А. Крученых и В. Хлебникова, художника и сценографа М. Ларионова. Идеолог русского авангарда И. Зданевич в своем докладе о футуризме категорически заявлял: «Что бы мы ни говорили, Россия — Азия, мы передовая стража Востока…»2.
Многочисленные примеры интереса к восточной тематике, развитие ориентальной образности в период Серебряного века позволило Е. А. Чач отметить, что отношение к Востоку в тот период было «многоплановым и неоднозначным» [Чач, 2010: 61]. Л. В. Спесивцева указала, что внимание к Востоку — это глобальное стремление «по-новому осмыслить устройство мироздания, проблему национального самосознания, мечту о новом универсальном миропостижении ХХ в.» [Спесивцева: 92]. Д. А. Гаджиева на примере повестей А. Платонова («Джан», «Песчаная учительница») приходит к выводу, что их герои — «обычные люди, несущие в себе свет глубокой, истинной духовности, объединяющей Восток с Западом» [Гаджиева: 65–66].
Проблема литературных и культурно-исторических связей Востока и Запада получила солидное научное освещение. Авторы исследования «Восток в русской литературе XVIII — начала XX века…» [Восток в русской литературе] обращались к проблемам развития восточной тематики в русской литературе. Как отметил Н. И. Никулин, «в русском востоковедении… существует устойчивая традиция научного внимания и осмысления процесса ознакомления с русской литературой в странах Востока, перевода русских авторов на восточные языки, освоения русской литературы на Востоке. Еще ранее стали проявлять в России внимание "к ориентальным интересам" русских писателей, освоению ими эстетического опыта восточных литератур и восточной тематики» [Никулин: 6]. А. И. Рейтблат, рассмотрев «три обобщающие монографии3 о русском ориентализме» [Рейтблат: 393], сделал вывод, что «русский ориентализм, испытавший воздействие западного, тем не менее существенно отличался от него. Это было связано с тем, что Россия одновременно является и Западом, и Востоком; если для Запада Восток — это "другой", то для России Восток — это в том числе и она сама, рассмотренная как "другая"» [Рейтблат: 400].
Работ, где внимание сосредоточено на поэтике писателей-эмигрантов, не так много. Между тем литературное наследие, обращенное к описанию Русского исхода, когда волны беженцев из Новороссийска и Крыма часто оказывались именно в Константинополе (Стамбуле), представляет особый интерес для анализа «восточной» темы. Образ города, ставшего «транзитным пунктом» для беженцев из России, одним из первых вошел в их литературную картину мира: «эмигранты вспоминали картины таинственного и красочного Востока, воспетые поэтами Серебряного века…» [Леденев, Романова: 179].
Тема Востока в поэтическом творчестве Н. А. Лохвицкой, знаменитой Тэффи, принадлежит к малоизученным, однако она была весьма значима для «печальной королевы смеха». Годы, проведенные на чужбине, опыт чужой культуры оставили неизгладимый след в сознании писательницы. Пребывание в новой культурной среде и жизнь в изгнании стали источником творческого вдохновения. В сборнике рассказов и очерков «Стамбул и солнце»4 Тэффи увековечила образ бурлящего жизнью города с минаретами и мечетями — типичными архитектурными чертами мусульманской культуры. В описании Тэффи Стамбул предстает в двойном освещении, соединяя приметы Запада и Востока: «над европейским оркестром» звучит «переливный клич муэдзина»5.
«Восточная тема», получившая широкое развитие в западноевропейской и русской литературе, была хорошо известна Тэффи и нашла оригинальное воплощение в ее поэзии — еще одном несомненном таланте знаменитой писательницы. Многие стихотворения Тэффи публиковались в дореволюционных периодических изданиях, а затем в эмигрантской прессе6.
Анализируя публикационную активность Тэффи начала 1920-х гг., Э. Хейбер ссылалась на политика и журналиста Г. А. Алексинского, который «вспоминал, что она не могла писать из-за сильнейшей тоски по родине <…>. Он предложил ей обратиться к поэзии, и в 1921 году некоторые ее стихотворения появились в издаваемом им пражском еженедельнике "Огни". В 1921–1922 годах она также опубликовала ряд стихотворений и серьезных рассказов в берлинском журнале "Жар-птица"» [Хейбер: 178].
В 1923 г. в Берлине, в издательстве журнала «Театр», вышли два сборника лирики Тэффи: «Шамрам: Песни Востока»
Восточные мотивы в поэтическом сборнике Н. А. Тэффи… 241 и «Passiflora». Стихотворения Тэффи, не вошедшие ни в один сборник, остались на страницах периодических изданий.
Сборник «Passiflora» стал одним из символов трагедии русского беженства. На его выход откликнулись три главных литературных центра русской эмиграции: Берлин, Париж и Прага7. «Шамрам» такой чести не удостоился и остался самым малоизвестным сборником Тэффи, о котором не часто упоминают современные справочные издания. Автор новейшей творческой биографии Тэффи отозвалась о ее «Песнях Востока» так же скупо, как и современники писательницы, — для «Шамрам» нашлось всего несколько строк в связи с адресатом посвящения. Слова: «Северной душе, влюбленной в Восток, посвящаю» — были обращены к П. А. Тикстону: «…первая встреча Тэффи с Тикстоном состоялась именно в Берлине, а их взаимная симпатия возникла с первого взгляда, поскольку она посвятила ему сборник "Шамрам"» [Хейбер: 186]. Между тем этот сборник представляет собой литературную игру, которая позволяет пережить трагедию русского беженства.
«Шамрам» продолжает развитие ориентальной тематики, представленной ранее в сборнике «Семь огней»8. Интерес Тэффи к Востоку был связан с творчеством Н. С. Гумилева и других поэтов Серебряного века (см.: [Леденев, Романова: 180, 179]), но также стоит отметить и творчество старшей сестры Тэффи — знаменитой поэтессы Мирры Лохвицкой. Определяя специфику ориентализма последней, Т. Л. Александрова отмечает: «Обращение к восточной тематике относится ко времени 1894–1895 гг., когда начал определяться индивидуальный стиль Лохвицкой, и это, несомненно, была ее находка. В изображении Востока довольно мало конкретных исторических черт, поэтессу интересует главным образом сама экзотика» [Александрова: 162]. Это верно и для лирики Тэффи, что может свидетельствовать о «классическом ориентализме»: «…обра-щение к восточному фольклору у классических ориенталистов способствует созданию экзотической картины чужого мира…» [Шафранская, Волохова: 654]. Однако если у Мирры тематический ориентальный круг достаточно широк: это и различные сюжеты, связанные с царем Соломоном, царицей Савской и Песнью Песней; и ранние семитские предания, обращенные к образам Агари или Лилит; и тиро-карфагенские легенды; и интерес к Египту; и гаремные сюжеты; и стихотворения, где художественное пространство заполнено восточным антуражем, — то для сборника «Шамрам» Тэффи характерны лишь два последних сюжетных комплекса. В ориентализме Мирры были отмечены «некоторые стилистические приемы, если не подлинно восточные, то традиционно приписываемые восточной поэзии, и над всем доминирует "восточная" сила чувства» [Александрова: 163], что характерно и для «Песен Востока» и определяет специфику сборника: составляющие его стихотворения, отличающиеся стилистическим разнообразием, отражают силу скрытых чувств и желаний лирического субъекта. Сборник насыщен описаниями жизни султанского гарема, сценами страсти и пылкими признаниями в любви, своеобразной декоративностью, как, например, в стихотворении «Фирюзэ-бирюза»:
«Душна чадра… У шатра до утра В мушмале росистой Поцелуй твой ждала, Как мушмала, Ай — душистый» 9 .
Примеры эмоциональных признаний, жажда страстей открыто выражена в разных стихотворениях:
«Мое сердце болит, болит… Мой платочек остался на ветке, А глаза мои на дороге…
Я все жду, не пройдет ли он мимо…
Где ты? Где ты, возлюбленный мой?..» («Милый», 314), или:
«Милая! Разве все так горят От любви,
Как я?» («Телеграфный столб», 315).
Молитвенно-благочестивые мотивы также встречаются довольно часто: «Cердце мне благословил Аллах» («Джанум», 307); «Да хранит Аллах своих рабов!»; «Мы прочли страницу из Корана / И с молитвой сняли ей машлак…» («Джелиль», 309) и др. Однако довольно часто на первый план выходит условность молитвы, хотя и сохраняется атмосфера традиционной набожности.
Соединение двух пространств: благочестия и страсти — наблюдается в стихотворении, где «мечеть Айя-Софья» («Джа-нум», 307) становится местом любовного признания лирической героини. Храм-символ, ранее — собор св. Софии, один из самых известных храмов, величественное сооружение I тыс. н. э. В стихотворении Тэффи храм назван «мечеть Айя-Софья», что соответствует греческому ( Ἁγία Σοφία ) или турецкому ( Ayasofya ) наименованию. Так же храм был назван в поэме русского кубофутуриста В. Каменского «КонСТАНТИ-нополь»10 и в стихотворении О. Мандельштама (1912):
«Айя-София — здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца, Как на цепи, подвешен к небесам» 11 .
Можно предположить, что Тэффи были знакомы эти произведения начала 1910-х гг. Наименование «Айя-София» / «Айя-Софья» свидетельствует о традиции, сохранившейся в русской модернистской поэзии.
Художественный мир ориентальной поэзии Тэффи насыщен экзотикой. Но эмоции и страсти, сопровождающие субъект лирики, остаются близкими читателю, независимо от куль туры, котору ю они представляют. В сборнике «Шамрам»
центральное место отведено теме любви, важны и такие тематические компоненты, как жизнь, смерть, вера.
Восточная тематика отражена в заглавиях стихов: «Лиловеет Босфор…», «Фирюзэ-бирюза», «Джанум», «Джелиль», «Персия», «Шамрам» и др. Однозначность идейного намерения автора дополняет посвящение П. А. Тикстону. Использование лексемы «Восток» в заглавиях и посвящении — явные, хотя и не единственные примеры интереса автора к мусульманскому Востоку. П. В. Алексеев, базируясь на принципах структурной поэтики и «теории сверхтекста», ввел понятие «мусульманский текст русской литературы» как «синтезированный сверхтекст-эквивалент», который является «своего рода "русским исламом"», хотя и подчеркнул, что «достаточно трудно привести однозначное, полностью исчерпывающее определение этому феномену» [Алексеев, 2009: 47].
Важнейшим элементом словаря «мусульманской» поэзии Тэффи является лексическая группа, тематически связанная с культурой Востока, которая включает реалии быта: капуд-жи , пиастры , сакля , султан , шатер , шах , шахиня ; имена собственные: Айшэ , Джан , Джанум , Джелиль , Египтянка , Гуссейн , Шамрам , Алеппо , Айя-Софья , Ай-Петри , Крым , Персия , Стам бул , Шираз ; образы мусульманской культуры: Аллах , аллахов сад , Коран , машлак , мечеть , чадра ; исламскую символику: полумесяц и звезда .
Отражая «иную» культурную действительность, поэтесса часто обращается к ориентализмам12:
-
1) капуджи: слово турецкого происхождения ( капу — «двери»); так называются придворные чины при турецком дворе, обязанные охранять входы Сераля.
«Старый капуджи сквозь сон услышал,
Будт о в дом вошел нездешний зверь…» («Джелиль», 308);
-
2) мечеть : слово арабского происхождения. В русском языке слово мечеть известно с давнего времени, по крайней мере, со 2-й пол. XVI в. <…> Восходит к арабскому ‘masğid’ — «мечеть» [ma- — префикс местонахождения, а sğid — образование от глаг. sağada u — «склоняться в благоговении», «падать ниц», «распрoстираться» (на полу, на земле), след. — «место, где падают ниц, где распростираются» (молящиеся): «мечеть Айя-Софья» («Джанум», 307);
-
3) султан : слово арабского происхождения ( sul ṭ ān , от арам. šul ṭ ānā — власть). Титул монархов в некоторых мусульманских странах.
«У жены великого султана
На плече горел звериный знак!» («Джелиль», 308);
-
4) сакля : слово грузинского происхождения ( სახლი сахли ‘dom’). Жилище кавказских горцев, а также деревянный дом в Крыму, обычно небольшой дом из дерева, глины, керамического или саманного кирпича, с плоской крышей. О грузи-низме слова сакля писали Г.-Р. А.-К. Гусейнов и А. Л. Мугумо-ва — «его экзотический характер продолжал ощущаться еще в начале ХХ века» [Гусейнов, Мугумова: 183].
«На юру — на самом ветре Под большой горой Ай-Петри, Стоит сакля мой-ой-ой» («Крым», 311);
-
5) шах : слово персидского происхождения (šâh). Др.-рус., заимств. из перс. яз., шах — «господин, повелитель, государь», является родственным др.-инд. kşáyati — «господствует, владеет». Название монарха в некоторых странах Ближнего и Среднего Востока.
«Словно виньетка
Для книги Мудрого Шаха,
Книги меча и огня» («Лиловеет Босфор…», 305).
Заглавие стихотворения «Фирюзэ-бирюза» создано путем соединения двух слов, являющихся языковыми эквивалентами. Русское слово бирюзa происходит от персидского фирюза, обозначающего «успешный, победительный, приносящий счастье». На примере этого стихотворения можно говорить о связи с двумя другими, более известными, сборниками лирической поэзии Тэффи. Сборник «Семь огней» составили семь циклов по названиям драгоценных камней: «Рубин», «Топаз», «Аметист», «Александрит», «Сафир», «Изумруд» и «Алмаз». К этому ряду можно добавить бирюзу берлинского сборника:
«Мои глаза — Фирюзэ-бирюза, Цветок счастья…» (306).
Особенностью сборника «Шамрам» является литературная игра в восточную сказку, где ролевая маска — одна из форм воплощения лирического субъекта, представленного в «Песнях Востока». Сборник отличается композиционной стройностью, основанной на законах лирического цикла. Несмотря на небольшой объем (всего 13 стихотворений), можно говорить о циклическом построении, которое основывается на устойчивых образах и лейтмотивах — это именной ряд и заданная цветовая гамма, определяющая перекличку стихотворений.
Прежде всего выделяются голубой / синий и золотой / желтый цвета, символизирующие счастье любви: «Кто знает толк, / тот желтый шелк / Свивает с синим …» («Фирюзэ-бирюза», 306). Амбивалентен зеленый цвет: это и «Злой зеленый кот», который «нашел какаду. / Похвалил, посмотрел, / Полюбил и съел…» («Персия», 312), — но это и «зеленый платок»: «Мой платок зеленого цвета — / Я нашла свою пару» («Зеленый платок», 317). Алый цвет указывает на опасность: «На своем плече Джелиль скрывала / Алый след двенадцати зубов!» («Джелиль», 309); несет угрозу «Сердцу шахову — Шахине» алый зной, в котором разметалась «Шаха смуглого Гуссейна / Нелюбимая жена» («Полдень», 310). Однако другой оттенок красного цвета рождает иные чувства — это «песнь любви», явленная в стихотворении «Одна навсегда»: «Я нашел на земле вишню красную — / Твои губы сладкие, / Возлюбленная!» (316), и символ любви и верности: для любимого Джанум, героиня одноименного стихотворения, будет «вить веретеном пурпуровую нить» («Джанум», 307).
Композиция цикла подчеркнута перекликающимися именами лирических героинь или, точнее, лирических масок. Одно из начальных стихотворений названо по имени героини — «Джанум», воплощающей самоотверженность любви:
«Я твоя Джанум! В мечети Айя-Софья Сердце мне благословил Аллах, Чтобы отдала тебе свою любовь я В поцелуях, песнях и слезах…» (307).
Имя Джанум появляется и в финальном стихотворении сборника, названном «Шелк любви», где уже герой обращается к своей возлюбленной:
«Душа ли ты моя?
Или дух души моей — Моя Джан!
Джанум!» (318).
Это имя закольцовывает композицию сборника, что подчеркивает значимость имени. Важны его этимология и семантика. В научной литературе рассматриваются две концепции: согласно первой, слово «джан» («джана», «джаник») тюркского происхождения, согласно второй — индоевропейского. В турецком языке джан — производное от джаным — «душа», в древнеперсидском имеет гораздо больше значений: «сердце», «жизнь», «сила», «дух». Кроме того, персидское «джан» созвучно греческому слову «ген» и русскому слову «жизнь». В казахском языке слово жан «душа, дух» является первичной номинацией концепа «Душа»: «В казахском языке номинативное поле концепта ДУША представлено лексемами бауыр (печень), ж ү рек (сердце), жан (душа, дух) <…> В казахском языке опорный компонент жан во фразеологизмах соответствуют русскому душа, дух <…> Так, существительное жаным имеет значения 1. Душа моя; 2. Сердце мое; 3. Ласковое обращение к близким, иногда и к чужим младше себя. Отсюда жанды — одушевленный, а жансыз — неодушевленный. Происхождение слова жануар , вероятно, от жан (ы) + б/уар (фонетическая переогласовка) или жәндік "насекомое" со значением "живое существо", хотя в казахском языке названия всей фауны представляют класс неодушевленных существительных» [Мусатаева, NDiaye: 74, 75].
Таким образом, посвящение, открывающее сборник: «Северной душе , влюбленной в Восток…», — встраивается в его семантическую структуру.
Однако следует отметить существование разночтений в установлении культурных кодов и трудностей в изучении антропонимической лексики арабо-мусульманского происхождения. Иносказательные смыслы, реализованные в художественном тексте в свете значений персидских и тюркских личных имен, выявляет О. Ю. Алейников: «…в переводе с туркменского и персидского джан — "душа", "жизнь". Тогда как для арабов джан — собирательное наименование духов из потустороннего мира» [Алейников: 7]13.
Имя, давшее название книге и размещенное почти в центре сборника, содержит обращение героя к своей возлюбленной:
«Не немки ль тебя научили
Так нежно и дерзко смотреть, Так грубо протягивать руки?
Ответь мне, Шамрам, ответь!» («Шамрам», 313)
— этот вопрос как бы перекидывает мостик от Востока к Западу, куда стремились те русские изгнанники, для которых Стамбул стал лишь остановкой на пути, например, в Париж, как это было у самой Тэффи, или в Прагу, где в конечном итоге обосновался ее коллега по «Сатирикону» А. Аверченко, или в Берлин, где какое-то время (до отъезда во Францию, а потом и в США) проживал В. Набоков, публиковавший свои стихи, как и Тэффи, в знаменитом журнале «Жар-птица».
Исследователи сборника «Стамбул и Солнце» писали о том, что «рассказы и очерки Тэффи о Стамбуле запечатлевают попытку человека преодолеть боль катастрофической потери через обращение к новому для него культурному пространству» [Леденев, Романова: 180]. Подобной попыткой представляется и создание сборника «Шамрам»: Тэффи продолжает творить свою восточную сказку вопреки непростым обстоятельствам, что выпали на долю многих ее соотечественников, беглецов и изгнанников.
В «Шамрам» можно увидеть особую рифму с прозой Тэффи начала эмиграции. Очевидна близость с тематическим и мотивным комплексом рассказа «Ностальгия»14. Автор начинает произведение с позиции психологии соучастия:
«Вчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал:
— Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия.
Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут.
— Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже пришло» 15 .
В прозаическом произведении используются поэтические приемы, среди которых один из самых распространенных — повтор, организующий ритм. В коротком рассказе Тэффи присутствует двойной повтор: в начале произведения Тэффи пишет о «душе, обращенной на восток»16, а в последней его части — о душах, «бледных, обращенных на восток»17, т. е. к России. Вводится в рассказ и указание на народную поэзию — плач, также являющийся ритмическим организатором:
«У нас каждая баба знает, — если горе большое и надо попри-читать — иди в лес, обними березоньку, крепко двумя руками, грудью прижмись и качайся вместе с нею и голоси голосом, словами, слезами изойди вся вместе с нею, с белою, со своею, с русской березонькой!» 18
А ведь это переклички наиболее завуалированные и, на первый взгляд, отдаленные: экзотический восток и русская народная лирическая стихия. Образный, символический, мотивный комплекс другого сборника лирической поэзии Тэффи «Pas-siflora», вышедшего в один год с «Шамрам», дает гораздо более широкое поле сопоставлений с прозой Тэффи эмигрантского периода.
Связь двух поэтических сборников высвечивается все более определенно, несмотря на их внешние различия. И строки сборника «Шамрам» — например, из стихотворения «Милый» с таким характерным повтором: «Мое сердце болит, болит…» (314) — или просьба, высказанная героиней стихотворения «Зеленый платок»: «Ах, возьмите, люди, платок мой, / <…> / И утрите мне слезы!» (317), — будто указывают направление к стихотворению сборника «Passiflora» — «Иду по безводной пустыне…», где центральным образом является трагический образ «тихой Рахили», безутешной скиталицы. Это стихотворение относится к ранней лирике Тэффи, но включение его в самый известный эмигрантский сборник поэзии словно придает ему новое освещение, на что указывает Ю. И. Кудряшова: «Само стихотворение мотивом "Vado mori" и образом Рахили как "блаженной смерти" проецирует средневековые периоды массовых смертей на сложную для российских эмигрантов ситуацию потери родины и выживания на чужбине, что говорит о попытке дать — с опорой на прошлое — модель нового мировосприятия» [Кудряшова: 82].
Возникает понимание, как сквозь обман литературной игры, создающей восточные песни, у Тэффи все отчетливее проступают черты того «Страстоцвета», что в христианской культуре является устойчивым символом скорби и страдания. Сборник «Passiflora» составлен из стихов разных лет, в том числе и 1910-х гг. Он открывается стихотворением, дублирующим его название: первое стихотворение названо «Страстоцвет» (по-латыни — «Passiflora»).
«Passiflora — скорбное слово, Темное имя цветка…
Орудие страсти Христовой — Узор его лепестка.
Да поют все цветы и травы Славу кресту твоему, И я твой стигмат кровавый На сердце свое приму» (193).
В сборнике «Шамрам: Песни Востока» Тэффи воссоздала, казалось бы, далекий мир мусульманского Востока. Однако эти поэтические исповеди — попытка ответить на волнующие вопросы о смысле человеческого существования. Такие глубокие чувства как боль, страх, радость и любовь, запечатленные в поэтическом высказывании, приобретают черты универсальности вне зависимости от конкретного культурного пространства.
И как «белая березонька» рассказа «Ностальгия», лирические «Песни Востока» встраиваются в ряд произведений, которые помогают пережить изгнаннику трагедию повседневности — череду непростых и безрадостных обстоятельств, неизменно выпадающих на его долю, являющихся катализатором ностальгии.
Литературная игра в сборнике «Шамрам» включает в себя универсальное измерение, для которого Тэффи находит воплощение как в экзотическом, так и в обыденном пространстве. И за экзотикой можно обнаружить нечто общее, общечеловеческое, общемировое — те вечные вопросы, мимо которых не проходит ни один большой художник. Эти «вечные» вопросы: жизнь и смерть, любовь и страдание, боль потери и пути ее преодоления — решала литература на протяжении многих веков, и все же каждый раз не утихала острота переживаний. Многочисленные травмы: социальные, культурные, психологические — стали характерной приметой поколения русских изгнанников «первой волны». Утверждать, что травмы были изжиты окончательно, совершенно невозможно. Так или иначе след от этих не совсем затянувшихся ран навсегда остался в душах многих эмигрантов. В этой связи творчество Тэффи, где находится место не только «пунктам травмы», но и «пунктам утешения», приобретает особую ценность, помогает утвердить силу жизни, вселить надежду на преодоление скорби и победу радости.
rudn.ru/literary-criticism/article/view/21726/17189 (accessed on September 1, 2023). DOI: 10.22363/2312-9220-2019-24-2-179-187 (In Russ.)
Список литературы Восточные мотивы в поэтическом сборнике Н. А. Тэффи «Шамрам: песни Востока»
- Алейников О. Ю. Семантика имен персонажей в повести А. Платонова «Джан» // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2015. № 2. С. 5–8 [Электронный ресурс]. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2015/02/2015-02-01.pdf (01.09.2023).
- Александрова Т. Л. Художественный мир М. Лохвицкой: дис. … канд. филол. наук. М.: МГУ, 2004. 293 с.
- Алексеев П. В. Мусульманский Восток в русской литературе: проблемы исследования // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 6 (18). C. 45–49 [Электронный ресурс]. URL: http://amnko.ru/Jurnali/(18)%202009/MNKO_2009-6.pdf (01.09.2023).
- Алексеев П. В. Концептосфера ориентального дискурса в русской литературе первой половины XIX в.: от А. С. Пушкина к Ф. М. Достоевскому. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2015. 348 с.
- Бобринская Е. А. Ранний русский авангард в контексте философской и художественной культуры рубежа веков: очерки. М.: ГИИ, 1999. 245 с.
- Восток в русской литературе XVIII — начала XX века. Знакомство. Переводы. Восприятие. М: ИМЛИ РАН, 2004. 256 с.
- Гаджиева Д. А. Восток в творчестве поэтов и писателей серебряного века как отражение евразийской мысли // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Серия: Общественные и гуманитарные науки. 2015. № 4 (33). С. 62–66 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vostok-v-tvorchestve-poetov-i-pisateley-serebryanogo-veka-kak-otrazhenie-evraziyskoy-mysli/viewer (01.09.2023). EDN: VHNDJB
- Гусейнов Г. А., Мугумова А. Л. Экзотические ориентализмы в творчестве А. С. Грибоедова: аспекты обновленной интерпретации // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. Вып. 11. С. 181–187 [Электронный ресурс]. URL: https://philology-journal.ru/ article/phil20191038/fulltext (01.09.2023). DOI: 10.30853/filnauki.2019.11.38
- Кудряшова Ю. И. Рахиль — блаженная смерть в стихотворении Тэффи «Иду по безводной пустыне…» // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2010. Вып. 4. С. 77–83 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rahil-blazhennaya-smert-vstihotvorenii-teffi-idu-po-bezvodnoy-pustyne/viewer (01.09.2023).
- Леденев А. В., Романова К. С. «Поэтика выживания»: опыт первых месяцев эмиграции в сборнике Н. А. Тэффи «Стамбул и солнце» // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2019. T. 24. № 2. С. 179–187 [Электронный ресурс]. URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/21726/17189 (01.09.2023). DOI: 10.22363/2312- 9220-2019-24-2-179-187
- Мусатаева М., NDiaye I. A. «В погоне за жар-птицей…». Языковая объективация концепта ДУША в казахской, русской и польской лингвокультурах // Acta Neophilologica. 2020. T. XXII (2). С. 67–81. DOI: 10.31648/an.5585
- Никулин Н. И. Введение // Восток в русской литературе XVIII — начала XX века. Знакомство. Переводы. Восприятие. М: ИМЛИ РАН, 2004. С. 3–11.
- Павельева Ю. Е. Поэзия Н. А. Тэффи на страницах эмигрантских изданий «первой волны» // Литература Древней Руси и Нового времени: мат-лы XII Всеросс. конф. «Древнерусская литература и литература Нового времени», посвященной памяти проф. Николая Ивановича Прокофьева (г. Москва, 1–2 декабря 2022 г.) / под общ. ред. Е. В. Николаевой и Н. В. Трофимовой. М.: МПГУ, 2023. С. 311–326. DOI: 10.31862/ 9785426312036
- Рейтблат А. И. «Ориентализм» и русский ориентализм (Обзор книг по ориентализму в русских востоковедении и литературе) // Новое литературное обозрение. 2020. № 1 (161). С. 392–400 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/article/21990/ (01.09.2023).
- Спесивцева Л. В. Тема Востока в лирической поэме Серебряного века // Гуманитарные исследования. 2013. № 2 (46). С. 87–93 [Электронный ресурс]. URL: https://humanities.asu.edu.ru/?articleId=426 (01.09.2023).
- Схиммельпэннинк ван дер Ойе Д. Русский ориентализм: Азия в российском сознании от эпохи Петра Великого до Белой эмиграции / пер. с англ. П. С. Бавина. М.: РОССПЭН, 2019. 285 с.
- Хейбер Э. Смеющаяся вопреки. Жизнь и творчество Тэффи / пер. с англ. И. Буровой. СПб.: БиблиоРоссика; Бостон: Academic studies press, 2021. 408 с.
- Чач Е. А. Ориентальный контекст Серебряного века // Омский научный вестник. 2010. № 1 (85). С. 59–62 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/orientalnyy-kontekst-serebryanogo-veka (01.09.2023).
- Чач Е. А. «Ориентализм» Серебряного века: факты и наблюдения. СПб.: СПбГУПТД, 2016. 287 с.
- Шафранская Э. Ф., Волохова Т. В. Поэтика ориентализма: повесть Леонида Соловьева «Кочевье» // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2020. Т. 25. № 4. С. 648–656 [Электронный ресурс]. URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/25450 (01.09.2023). DOI: 10.22363/2312-9220-2020-25-4-648-656
- NDiaye I. A. Literacki obraz Bliskiego Wschodu w futurystycznym poemacie Konstantynopol Wasilija Kamienskiego // Wschód muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie — teksty — historia / red. G. Czerwiński, A. Konopacki. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2017. S. 185–196.