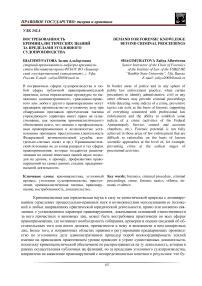Востребованность криминалистических знаний за пределами уголовного судопроизводства
Автор: Шагимуратова Залия Альбертовна
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс
Статья в выпуске: 2 (48), 2017 года.
Бесплатный доступ
В пограничных сферах судопроизводства и любой сферы публичной правоприменительной практики, когда определенные процедуры по выявлению административного, гражданско-право-вого или любого другого правонарушения могут предварять производство по уголовному делу при обнаружении признаков преступления тактика упреждающего характера имеет право на существование, как основание криминалистического обеспечения всего, что связано с профессиональным правоприменением и возможностью установления признаков преступления (деятельность Федеральной антимонопольной службы, контрольно-счетных палат и пр.). Криминалистический потенциал не до конца раскрыт в тех сферах правоприменения, которые поддаются рационализации на основе известных нашей науке подходов на уровне, к примеру, профилактики правонарушений на самых ранних стадиях предкриминальной деятельности.
Криминалистика, уголовное судопроизводство, преступление, криминалистическая тактика, правонарушение, востребованность, доказательство
Короткий адрес: https://sciup.org/142232740
IDR: 142232740 | УДК: 342.4
Текст научной статьи Востребованность криминалистических знаний за пределами уголовного судопроизводства
Криминалистика как юридическая наука в силу ее синтетической природы с доминированием отраслевых процессуально-правовых наук и возможностями использования ее положений в любых направлениях практической юридической деятельности, прямо или косвенно связанных с установлением характера правонарушения, доказывания оснований ответственности за него причастных и виновных лиц, может быть востребована практически во всех сферах правоприменения, где возникает необходимость собирания, проверки и оценки сведений об обстоятельствах того или иного деликта, причастности к нему и виновности в нем конкретных лиц. Более того, в пограничных областях правового регулирования предваряющих производство по уголовному делу административных процедур порой нескоординировасть усилий именно на прикладном практическом уровне приводит к утрате существенных доказательств, поскольку криминалистической обеспечение не распространяется на ту деятельность, которая в рамках осуществления публичных же функций, но за пределами уголовного судопроизводства, направлена на выявление правонарушений с неопределенностью конечного результата: что бу-
дет установлено – признаки состава преступления, административного правонарушения или вовсе отсутствие события и состава и того, и другого. Речь здесь идет о различного рода расследованиях по установлению обстоятельств несчастного случая на производстве или налогового правонарушения, содержащего признаки состава преступления, о деятельности контрольно-счетной палаты России и таких же органов финансового контроля на региональном уровне, о деятельности Федеральной антимонопольной службы, о проводимых в рамках различных спецопераций досмотрах транспортных средств и личных досмотров граждан.
Ярким примером такой нескоординированности может служить дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, А.Н. Черепанова, перевозившего собственноручно изготовленный гашиш на попутном автобусе, который был остановлен для досмотра сотрудниками ДПС. При этом сотрудники ДПС лишь визуально определили состояние наркотического опьянения А.Н. Черепанова, увидев его круги под глазами, которые сам А.Н. Черепанов объяснял перенесенной черепно-мозговой травмой и настаивал на том, что он намеревался добровольно выдать находившиеся при нем наркотические средства. Освидетельствование А.Н. Черепанова не провели, так как закончились тест-полоски. Некоторые из допрошенных в качестве свидетелей пассажиров микроавтобуса, показывавшие в ходе предварительного расследования о наличии внешних признаков наркотического опьянения как основании личного досмотра А.Н. Черепанова, изменили свои показания в суде на диаметрально противоположные. Защитник просила в суде прекратить уголовное дело в отношении А.Н. Черепанова, мотивируя это тем, что он добровольно сдал наркотическое средство, на вопрос сотрудников ДПС о наличии при нем запрещенных в обороте предметов и наркотических средств указал его местонахождение. По мнению защитника, А.Н. Черепанов мог распорядиться данным наркотическим средством по своему усмотрению, оснований для задержания его у сотрудников милиции не было, поскольку он сам представил свои документы при проверке. Изъятие наркотических средств у А.Н. Черепанова не производилось при его задержании, какие-либо следственные действия по их обнаружению и изъятию в отношении А.Н. Черепанова также не производились. Свидетели не подтвердили показания сотрудников милиции о том, что А.Н. Черепанов имел круги под глазами, красные глаза, несвязную речь. А.Н. Черепанова не освидетельствовали на предмет употребления наркотиков. Только один из сотрудников ДПС мог задать вопрос о наличии запрещенных в гражданском обороте предметов, так как второй сотрудник увел в это время водителя в автомашину ДПС для составления административного протокола, что следует из показаний свидетелей. Однако оба сотрудника свидетельствовали в суде, что в их присутствии А.Н. Черепанов сообщил про наркотики в своем пакете. С доводами защитника согласился и государственный обвинитель, и суд, поскольку, насколько это видно из материалов дела, имелись явные упущения сотрудников ДПС как при производстве досмотра, так и при проведении первоначальных следственных действий до возбуждения уголовного дела [11]. При этом о причинах некоторых трансформаций с доказательствами по делу остается только догадываться, поскольку, например, защитник имеет право опрашивать лиц с их согласия (п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ [2]), и скорее всего причиной изменения показаний отдельными свидетелями в суде могли стать его усилия, которые не вписываются в формат традиционных представлений о такой кабинетной и внутриотраслевой криминалистической тактике. Подобная практика решений суда о прекращении дела ввиду деятельного раскаяния, которого в действительности не было, является преимущественно вынужденной ввиду слабости позиций обвинения из-за допущенных в ходе административных процедур ошибок, и в связи с тем, что криминалистика так и не выработала действенных приемов предотвращения «внекабинетного» противодействия со стороны профессиональных участников процесса со стороны защиты в рамках предоставленных им законом прав.
Идеи расширения криминалистики за форматом уголовного процесса в иных сферах правоприменения в настоящее время получили широкую поддержку в научных кругах и вы- звали одновременно столь же острую критику. Н.П. Яблоков, подчеркивая необходимость решения задач дальнейшего совершенствования средств, приемов и методов борьбы с преступностью, отдельно остановился на проблеме необходимости «повышения значения и возможностей криминалистики в иных сферах правоприменительной деятельности» [13, с. 69]. Однако пальма первенства в продвижении идей расширения «криминалистического присутствия» в различных сферах правоприменения заслуженно принадлежит Е.Р. Россинской, которая подчеркивает «необходимость изучения закономерностей использования криминалистики в гражданском и арбитражном процессе, а главное в производстве по делам об административных правонарушениях, где теперь имеется административное расследование» [10, с. 334]. Отмечая настоятельную потребность в криминалистическом обеспечении доказывания по гражданским и арбитражным делам, Е.П. Ищенко и М.В. Жижина пишут: «Тенденция развития криминалистического обеспечения сказалась и на выходе научных разработок, востребованных практикой, за пределы уголовно-процессуального права и теории доказательств в уголовном процессе» [5, с. 22–23]. В обобщении представлений о современных походах к систематизации криминалистики Е.П. Ищенко приходит к выводу о том, что криминалистика в настоящее время «достигла такого уровня развития, что накопленные знания уже «не вмещаются» в традиционную структуру» [6, с. 17]. «Общие закономерности судебного доказывания, имеющие интеграционный надотраслевой характер, при определении объекта криминалистической деятельности, – пишет в другой своей работе М.В. Жижина, – позволяют абстрагироваться от особенностей отраслевой процессуальной регламентации и говорить о возможности использования криминалистических средств в любом другом доказательственном процессе» [4, с. 42].
Тем не менее, востребованность криминалистических знаний за пределами уголовного судопроизводства в действительности, по мнению ряда исследователей, не является достаточным основанием для качественной трансформации предметной области науки. В частности, один из столпов теории криминалистической тактики В.Ю. Шепитько пишет: «Востребованность криминалистики, использование ее данных в иных сферах, определенные процессы интеграции и дифференциации научного знания не смогли привести к существенному изменению предмета криминалистики, которая по-прежнему остается наукой о закономерностях преступной деятельности и ее отражении в источниках информации» [12, с. 28]. В.И. Комиссаров не без оснований задается вопросом: «кто должен преподавать криминалистику будущим цивилистам – они сами или криминалисты, которые далеки от запросов гражданского, административного и других отраслей права…?» и делает вывод о том, что «не стоит преувеличивать роль криминалистики в правоприменительной практике, равно как и нет оснований умалять ее заслуги в борьбе с преступностью» [7, с. 205, 208].
В настоящее время проблема преследования за совершенное преступление не упирается в факт подготовки и совершения такового. К примеру, подобно «коррупционной молекуле» нарушения требований по урегулированию конфликта интересов способны трансформироваться в куда как более серьезное и уже криминальное посягательство или в скрытой форме уже являться таковыми. Подобные метаморфозы правонарушений в преступления не должны проходить незамеченными. В этом случае реагирование на потенциально развивающееся коррупционное преступление должно носить упреждающий характер. К примеру, институт конфликта интересов на государственной службе и необходимость установления связанных с ним должностных проступков являются базовыми сегментами предупреждения коррупции, и если криминалистика будет в стороне от подобного рода должностных расследований, то окажется в ситуации вечно отстающей отрасли знаний, не способной на более ранних предкриминальных этапах бороться с этим чрезвычайно опасным социальным злом. При этом необходимо отдавать себе отчет и в том, что сама по себе коррупция в самой широкой ее трактовке далеко не всегда носит криминальный характер. Другое дело, что по существу проводимые проверки кадровыми службами мало имеют общего с зарубежными моделями должностных расследова-

ний, и даже в этом криминалистика может перехватить инициативу. Вместе с тем, криминалистика могла бы получить более широкое применение в работе Федеральной антимонопольной службы, к примеру, по выявлению фактов нарушения законодательства о государственных закупках, которые порой выступают скрытой формой злоупотреблений и превышения должностных полномочий. Не безынтересен криминалистический познавательный потенциал для наиболее эффективного выявления и более точной профилактики злоупотреблений для служб экономической безопасности, в особенности, крупных хозяйствующих субъектов, которые работают в настоящее время на эмпирическом уровне практики и опыта находящихся в их штате отставных офицеров полиции, органов государственной безопасности и пр. Спецификой выявления преступлений в этих коллективах, как правило, является доминирование бизнес-стратегии минимизации связанные с недобросовестностью отдельных сотрудников потерь с преимущественным возложением соответствующей материальной и дисциплинарной ответственности на виновных при явно выраженном определенными параметрами фондового рынка нежелании «выносить сор из избы». А в остальном подобная деятельность служб экономической безопасности вполне имманентна криминалистическим рекомендациям. В этом смысле внешнее отношение без внутренних качественных преобразований криминалистики к различным областям правоприменения не нарушает строгости и сложившейся традиции теоретикодоказательственной концепции ее предметной определенности.
Вместе с тем, нельзя не согласиться с А.А. Эксархопуло, который очень точно проблему фактической востребованности криминалистических рекомендаций и пользы от этого переводит в плоскость решения главного вопроса о допустимости расширения предмета науки, данные которой могут оказаться полезными в иных сферах человеческой деятельности, исключительно на основании существования некоей потребности в применении криминалистических средств, приемов и методов: «Если руководствоваться такими соображениями, то к предмету криминалистики следует добавить все жизненные ситуации и проблемы, для разрешения которых могут оказаться полезными криминалистические рекомендации, и требовать на этом основании расширения ее предметной области. Т.С. Волчецкая не без оснований задается вопросами о том, как можно объяснить исследование в рамках криминалистической науки ранее чуждых ей объектов и на основании чего может произойти изменение границ предметной области криминалистики: за счет расширения объектов криминалистики или междисциплинарных исследований [3, с. 13]? Эти более чем справедливые вопросы науковедческого плана ни применительно к криминалистике в целом, ни к криминалистической тактике системно не решены.
Криминалистическая тактика за годы теоретических попыток выхода в сферу административного, гражданского и арбитражного судопроизводства, тем не менее, не приобрела единый вектор обеспечения судопроизводства вообще безотносительно к его отраслевой специфике [9, с. 155]. При заманчивости такой перспективы открытия много более широкого спектра криминалистического приложения одно из основных методологических препятствий к этому видится в нескоординированности всего судопроизводства в целом по принципиальному положению единой социальной ценности. При всеобщности положений о признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина как обязанности государства (ст. 2 Конституции РФ) и при том, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 3 ст. 1 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [8]), ни в одном законодательном акте нет объединяющей формулировки о социальной ценности всего правосудия России в целом. Уголовное досудебное производство, как известно, работает по принципу «до суда и для суда», в связи с чем его рациональность определяется общими положениями социальной ценности всего соответствующего отраслевого правосудия. Но именно в уголовном судопроизводстве столь широки стадии до- судебного производства по делу, именно в рамках него остро стоит вопрос установления события преступления, изобличения лица или лиц, виновных в его совершении (ч. 2 ст. 21 УПК РФ). Вместе с тем, все без исключения судопроизводство согласно действующим по соответ- ствующим отраслям кодексам (ч. 1 ст. 6 УПК РФ, ст. 2 ГПК РФ, п. 1 ст. 2 АПК РФ, п. 2 ст. 3 КАС РФ) носит преимущественно охранительный характер, в котором правовосстановительные ориентиры могут угадываться разве что неисправимыми оптимистами [1, 123–124]. В любом случае защита нарушенных и оспариваемых прав как общая формула для всего российского судопроизводства в уголовном процессе приобретает лишь специфическое звучание, определенное особенностями данной сферы правосудия.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что правовое регулирование в пограничных его областях различных отраслей судопроизводства остро нуждается в криминалистическом обеспечении. При этом наиболее изощренные формы противодействия не только и уже не столько расследованию преступлений, а достижению назначения уголовного судопроизводства в целом, оказываются далеко за пределами предметной области криминалистической науки.