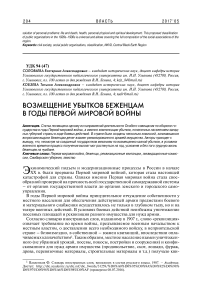Возмещение убытков беженцам в годы Первой мировой войны
Автор: Соловьева Екатерина Александровна, Кобзева Татьяна Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 5, 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из направлений деятельности Особого совещания по обороне государства в годы Первой мировой войны, а именно компенсации убытков, понесенных населением западных губерний страны в ходе боевых действий. В стране были созданы несколько комиссий, занимавшихся вопросами выдачи беженцам денег взамен реквизированного армией имущества. Авторы приходят к выводу, что, несмотря на созданный государством механизм по возмещению казной убытков, в условиях военного времени процесс получения выплат мог растянуться на год, усложняя и без того трудную жизнь беженцев на чужбине.
Первая мировая война, беженцы, реквизиционные квитанции, ликвидационные комиссии, симбирская губерния, земство
Короткий адрес: https://sciup.org/170168795
IDR: 170168795 | УДК: 94
Текст научной статьи Возмещение убытков беженцам в годы Первой мировой войны
Э кономический подъем и модернизационные процессы в России в начале
XX в. были прерваны Первой мировой войной, которая стала настоящей катастрофой для страны. Однако именно Первая мировая война стала своеобразной проверкой на прочность всей государственной самодержавной системы – от органов государственной власти до органов земского и городского самоуправления.
В годы Первой мировой войны принудительное отчуждение собственности у местного населения для обеспечения действующей армии предметами боевого и материального снабжения осуществлялось не только в глубоком тылу, но и на театре военных действий. В условиях боевых действий неизбежны уничтожение посевных площадей и реквизиция разного имущества для нужд армии.
Согласно словарю иностранных слов, изданному в 1907 г., слово «реквизиция» означает требование во время войны, предъявляемое военным начальством к местным властям, о доставлении всего необходимого войску, в неприятельской стране – безвозмездно, в собственной – взамен квитанций, впоследствии оплачиваемых казначейством1. Таким образом, местное население взамен уничтоженного (не убранный урожай, посевы, покосы, постройки и сооружения) и конфискованного для нужд армии имущества (продовольствие, скот, лошади, фураж, дрова, перевязочные материалы, строительные материалы и т.д.) получало кви- танции, которые оплачивались не только «своим местным начальством», но и органами власти той местности, где они оказывались в качестве беженцев.
Согласно Своду законов Российской империи в местностях, объявленных на военном положении, право осуществлять «общие и частные реквизиции» предоставлялось командующему армией или штабом округа1. 15 августа 1914 г. Николай II утвердил Положение о порядке производства реквизиций во время войны и в период мобилизации. Положение предоставляло право назначения реквизиций большому кругу ведомств и военачальников, включая командиров дивизий, что создавало почву для трудностей и конфликтов при их осуществлении [Алексеев 2014: 81]. Так, при утере или отсутствии реквизиционной квитанции в заявлении необходимо было указать, по чьему распоряжению, в какой местности, когда и какая выполнялась реквизиция или работа, а также указать, если известно, фамилию и чины начальствующих лиц той рабочей партии отряда или дружины, с которыми работал проситель2. В условиях приближающегося неприятеля это не всегда возможно было сделать.
Правила по возмещению казной убытков появились 6 октября 1916 г. (Собр. Узак. и Расп. от 25.11.1916 г. за № 331, ст. 2675)3. Согласно I и II ст. главы I, уплата денег по реквизиционным квитанциям была возложена на соответствующие ликвидационные комиссии, учрежденные на каждом фронте и действующие в определенном районе. Комиссии занимались разбором претензий, связанных с неправильным наличным денежным расчетом за реквизиции, неверным определением веса, количества или стоимости реквизированного имущества, а также удовлетворением ходатайств об уплате недополученных денег за принудительные наряды для производства работ, вызванных военными обстоятельствами.
Вознаграждение за уничтоженное имущество могло быть выдано, если имущество уничтожалось: во-первых, по распоряжению властей; во-вторых, вследствие неправильных действий войск. За убытки 1-й категории при наличии письменного доказательства уничтожения имущества казна возмещала ущерб полностью. Для получения денег необходимо было обращаться в особые оценочные комиссии. За убытки 2-й категории ответственность несли войсковые части (ст. 5 Правил от 6 октября 1916 г.). Сюда же относились и те доказанные случаи уничтожения войсками имущества, в отношении которых не имелось сведений, что уничтожение происходило по распоряжению властей. Для возмещения ущерба необходимо было обращаться в особые оценочные комиссии или, если местность не была занята врагом, в уездные оценочные комиссии.
Если же имущество было уничтожено из-за случайных обстоятельств, сопутствующих военным действиям (пожар, артиллерийский обстрел и т.п.), то в таком случае казна никакой денежной ответственности не несла. Ходатайства такого рода должны были направляться в Главный комитет по делам о расчетах за реквизированное или уничтоженное имущество, являющийся объединенным и руководящим органом в делах денежных расчетов за реквизированное или уничтоженное имущество, где они собирались и хранились до издания соответствующих законов.
По мере продвижения неприятеля с запада на восток и оккупации все большего числа губерний возникали проблемы по быстрому удовлетворению ходатайств беженцев по реквизиционным квитанциям, т.к. созданные для этих целей ликвидаци онные комиссии могли изменить свои границы.
Для расчетов по реквизициям в границах Минского военного округа 30 июня 1915 г. была учреждена Минская ликвидационная комиссия в г. Минске. Созданный в 1914 г. Минский военный округ включал в себя Келецкую, Минскую, Могилевскую, Радомскую, Петраковскую и Холмскую губернии, часть Волынской, Седлецкой и Смоленской губерний. Однако в 1916 г. его география значительно расширилась. Теперь он охватывал Могилевскую, Минскую, Смоленскую, Калужскую губернии; Новоторжский, Старицкий, Ржевский, Зубцовский уезды Тверской губернии; Волоколамский, Рузский, Можайский, Верейский уезды Московской губернии; Брянский, Карачевский, Трубческий, Дмитровский, Севский уезды Орловской губернии; Вилейский, Ошмянский уезды Виленской губернии; Мглинский, Руражский, Стародубский, Новозыбковский, Новгородсеверский уезды Черниговской губернии.
Для губерний, входивших в состав Двинского военного округа, была создана Двинская (Виленская) ликвидационная комиссия в г. Витебске. Она рассматривала претензии за реквизированное военными властями имущество в Рижском уезде Лифляндской губернии, в Курляндской, Ковенской, Сувалкской, Витебской, Псковской, Ломжинской, Плоцкой, Варшавской, Калишской губерниях, в Лодзинском, Брезинском и Равском уездах Петроковской губернии, в Бельском, Белостокском, Сокольском, Волковыском и Гродненском уездах Гродненской губернии.
Ходатайства по оплате реквизиционных квитанций от беженцев Курляндской губернии рассматривались Курляндским губернским по воинским повинностям присутствием. При этом до 15 мая 1916 г. уполномоченный по выплатам находился в г. Пскове, а после был переведен в г. Юрьев Лифляндской губернии1.
Беженцы из Брестского уезда Гродненской губернии должны были подавать прошения в Брестскую реквизиционную комиссию. А в 1916 г. в г. Смоленске была создана Первая ликвидационная комиссия Западного фронта.
На комиссии также было возложено рассмотрение претензий за уничтожение русскими войсками или по распоряжению военных властей посевов. Возмещению подлежали 25%, а в «крепостных» районах – 50% стоимости уничтоженных посевов.
Чтобы избежать случаев незаконного получения возмещения за понесенные убытки, заявления рассматривались комиссией только при наличии подлинных реквизиционных квитанций или других документов, доказывающих факт реквизиции или уничтожения посевов2.
После летнего отступления русской армии в 1915 г. и потери части русских земель (Польши, части Прибалтики, западной Белоруссии и Украины) поток беженцев в глубь страны увеличился. К середине сентября во внутренних губерниях находилось уже около 750 тыс. переселенцев. До начала 1916 г. только маршрутными поездами было вывезено еще более 2 млн чел. [Белова 2011: 87]. Так, в Симбирской губернии к августу 1916 г. их насчитывалось (по сведениям разных ведомств) 35–40 тыс. чел. [Ефимов 2006: 83]. Некоторые из них везли с собой реквизиционные квитанции, которые рассчитывали обналичить на месте прибытия.
На местах помощь беженцам оказывали различные благотворительные организации (государственные, общественные и национальные). А после принятия закона от 30 августа 1915 г. «Об обеспечении нужд беженцев» забота об их нуждах «в пище и крове» возлагалась на Особое совещание по устройству беженцев при
МВД. Ежемесячно беженцы получали денежное пособие на продовольствие в размере пайка семей мобилизованных и квартирный паек.
Так, в распоряжение симбирского губернатора на содержание беженцам в 1915 г. поступили 502 тыс., в 1916 г. – 1,1 млн руб., в январе 1917 г. – 388 тыс. руб. А ассигнования на выдачу продовольственного пособия в том же январе 1917 г. сократились с 244 480 руб. до 180 054 руб. [Ефимов 2006: 86].
В условиях постоянного роста цен выдаваемого правительством содержания было недостаточно, и беженцы по реквизиционным квитанциям, выданным на месте прежнего проживания, надеялись получить пособия или кратковременные ссуды в Госбанке1.
13 октября 1915 г. согласно предоставленной губернатору информации из отделения беженцев, созданного в Симбирской губернской земской управе, многие беженцы стали обращаться к разным организациям и должностным лицам с вопросами, кто и когда будет платить по скопившимся у них реквизиционным квитанциям2.
С началом войны положение земских учреждений ухудшилось, и им все труднее становилось покрывать дефицит в бюджете, т.к. увеличивались недоимки, росли проценты по задолженности по различным счетам, сокращалось число специальных капиталов. При этом земства совместно с Государственным банком и кредитными учреждениями губернии для решения продовольственных проблем населения выделяли крупные финансовые средства [Кобзева 2014: 173]. Правительство выступало гарантом по земским займам, направленным на решение продовольственной проблемы. Так, на октябрь 1916 г. земства Казанской губернии получили следующие правительственные гарантии по займам: Лаишевское – 300 тыс. руб.; Мамадышское – 100 тыс. руб.; Чебоксарское – 250 тыс. руб.3 Земства Пензенской губернии также получили займы: Пензенское – 50 тыс. руб., Инсарское – 85 тыс. руб.; Мокшанское – 85 тыс. руб.; Нижне-Ломовское – 70 тыс. руб., Чембарское – 50 тыс. руб.4 Бугульминскому земству Самарской губернии было выдано под правительственные гарантии 150 тыс. руб., Новоузенскому – 200 тыс. руб. В Саратовской губернии Саратовское и Аткарское земства под правительственные гарантии получили 100 тыс. руб.; Балашовское – 50 тыс. руб.; Камышинское – 300 тыс. руб.; Царицынское – 75 тыс. руб.5
В связи с трудной экономической ситуацией Симбирская губернская земская управа просила губернатора: «во-первых, чтобы выплаты по квитанциям производились в непродолжительное время, так как многие беженцы имели квитанции на большие суммы, что явилось бы тяжелым бременем для казны, и, во-вторых, чтобы деньги выдавались по распоряжению уездных управ, а если это было бы невозможно, то хотя бы уведомлять управы о выплатах, чтобы они имели представление об имущественном состоянии отдельных беженцев».
Однако уже 15 октября 1915 г. «рассмотрение всех нужд беженцев» было возложено на Особое совещание по обороне государства под руководством МВД6. Сюда через губернатора должны были направляться все квитанции. Еще одним промежуточным звеном в реализации цепочки «реквизиционные квитанции – деньги» стали уездные управы, выделявшие деньги на проживание беженцев. Таким образом, заявления беженцев на получение компенсаций преодолевали уровни уездной управы, губернатора, губернского правления и Особого совеща-ния1.
Несмотря на определение круга учреждений, занятых выплатами по квитанциям, 26 октября Симбирская губернская земская управа обратилась к губернскому правлению за разъяснением, какая же все-таки выработана практика приема от беженцев заявлений и выдачи по ним денег.
31 октября 1915 г., согласно новому распоряжению Департамента государственного казначейства, заявления от беженцев стали направляться в Симбирское губернское правление через казенную палату. А в 1916 г. все расчеты по реквизиционным квитанциям стали перенаправляться в ликвидационные и реквизиционные комиссии.
Общее число заявлений от беженцев было непостоянным. Так, за ноябрь 1915 г. Симбирское губернское правление получило 15 квитанций от беженцев, проживающих в с. Малое Нагаткино Больше-Цильнинской волости Симбирского уезда, о выдаче им вознаграждения за отобранный в казну скот2. А в феврале 1916 г. Симбирское губернское правление получило уже 131 заявление – 148 квитанций на различную сумму от 8 до 1 355 руб.3
Из-за большого числа заявлений на возмещение сданного в казну скота были замечены попытки получить деньги без реквизиционных квитанций. Так, 26 февраля 1916 г. Симбирское губернское правление отказало «просителю Нущику в его ходатайстве о выдаче денег за взятую у него неизвестно кем корову»4.
В феврале 1916 г. в Минскую ликвидационную комиссию были направлены реквизиционные квитанции от 131 чел. на сумму от 8 руб. до 46 299 руб. Данные квитанции были датированы июлем 1915 г. – февралем 1916 г.5
В 1916 г. на имя губернатора от беженцев стали поступать жалобы на медлительность в вопросах выдачи вознаграждения. Так, крестьяне, сдавшие скот в казну и получившие за него квитанции, сдали их губернатору еще в ноябре 1915 г. и к сентябрю 1916 г. денег так и не получили. В ответе, который пришел через 3 месяца из Симбирского губернского правления, говорилось, что квитанции были отосланы в Минскую ликвидационную комиссию в феврале 1916 г. (через 3 месяца после получения), и для ускорения получения денег просителям необходимо обращаться непосредственно в комиссию6. Таких случаев наблюдалось довольно много. В марте 1916 г. беженцы из Гродненской губернии отправили свои квитанции в Симбирское губернское присутствие, которое только в июле переслало их в Гродненский ссудный комитет7. В среднем прошения беженцев передавались от губернатора в комиссию в течение 3 месяцев. Некоторые беженцы не выдерживали ожидания и обращались в губернское правление с просьбой вернуть им прошения обратно, с тем чтобы лично отправить их в ликвидационные комиссии8.
Таким образом, после массовой эвакуации населения прифронтовых территорий летом 1915 г. российской власти пришлось решать целый комплекс проблем, связанных с размещением беженцев на местах. На плечи местной административно-исполнительной власти легли не только хлопоты, связанные с размещением, обеспечением продовольствием и другими проблемами, но и рассмотрение обращений беженцев, у которых при наступлении русской армии или эвакуации было реквизировано имущество. В 1915–1916 гг. в стране был создан целый механизм, производивший денежные выплаты беженцам. Этот механизм включал в себя уездную управу, губернатора, губернское правление, ликвидационные и реквизиционные комиссии западных губерний. Однако в условиях военного времени получение денег могло занять целый год, и потерявшие всякую надежду на получение причитающийся им оплаты беженцы были вынуждены обращаться с жалобами к губернатору. Но и это не помогало ускорить процесс получения денег.
Список литературы Возмещение убытков беженцам в годы Первой мировой войны
- Алексеев Т.В. 2014. Реквизиционная деятельность особого совещания по обороне государства в годы Первой мировой войны. -Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 11(1). С. 81-84
- Белова И.Б. 2011. Первая мировая война и российская провинция. 1914 -февраль 1917 г. М.: АИРО-ХХI. 288 с
- Ефимов Ю.Д. 2006. Симбирск в годы Первой мировой войны 1914-1918. Ульяновск: ИГ «Артишок». 368 с
- Кобзева Т.А. 2014. Земства среднего Поволжья в годы Первой мировой войны (на материалах Симбирской губернии). -Власть. № 2. С. 170-173