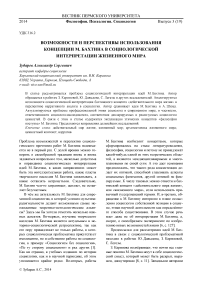Возможности и перспективы использования концепции М. Бахтина в социологической интерпретации жизненного мира
Автор: Зубарев Александр Сергеевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 3 (19), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема социологической интерпретации идей М. Бахтина. Автор обращается к работам З. Каримовой, Ю. Давыдова, С. Легезы и других исследователей. Анализируются возможности социологической интерпретации бахтинского концепта «действительного мира жизни» в перспективе нарративного анализа в социологии. Автор сравнивает идеи М. Бахтина и А. Шюца. Актуализируются проблемы профессиональной этики социолога в современном мире, в частности, ответственности социолога-исследователя, соответствия декларируемых и реализуемых социологом ценностей. В связи с этим в статье содержится экспликация этических концептов «философии поступка» М. Бахтина. Предлагаются направления дальнейших исследований.
Действительный мир жизни, жизненный мир, архитектоника жизненного мира, ценностный контекст, нарратив
Короткий адрес: https://sciup.org/147202983
IDR: 147202983 | УДК: 316.2
Текст научной статьи Возможности и перспективы использования концепции М. Бахтина в социологической интерпретации жизненного мира
Проблема возможностей и перспектив социологического прочтения работ М. Бахтина поднимается не в первый раз. С долей иронии можно говорить о своеобразной традиции вновь и вновь задаваться вопросами о том, насколько допустима и оправданна социологическая интерпретация идей М. Бахтина, в каких направлениях может быть эта интеллектуальная работа, какие пласты творческого наследия М. Бахтина захватывать, а какие оставлять нетронутыми. Следовательно, М. Бахтин чем-то затрагивает, цепляет, не оставляет безучастным.
В чём же актуальность М. Бахтина для современной социологии, в которой условия мультипа-радигмальности делают возможными самые неожиданные теоретико-методологические альянсы? Здесь мы бы хотели отметить несколько важных аспектов. Во-первых, изучение творческого наследия М. Бахтина является актуальным в историко-социологической ретроспективе, так как его перу принадлежат не только работы, в которых социологическая проблематика присутствует имплицитно, но и собственно работы по социологии, к примеру «Социологизм без социологии», «По ту сторону социального» и ряд других [1]. Как ни странно, в учебных изданиях по истории социологии, как и в научной периодике, об этом упоминается крайне редко. Во-вторых, работы
М. Бахтина изобилуют концептами, которые сформировались на стыке литературоведения, философии, социологии и потому не принадлежат какой-нибудь одной из этих теоретических областей, а являются междисциплинарными и многоплановыми по своей сути. А это дает основания предположить, что такого рода консистенция делает их оптикой, способной улавливать аспекты социальных феноменов, другой оптикой не фиксируемые. К числу таковых можно отнести и бахтинский концепт «действительного мира жизни», или «жизненного мира», если использовать привычный гуссерлианский термин. И, в-третьих, обращение к М. Бахтину интересно в плане осмысления социологом собственной позиции в социуме, этики научной деятельности как определённого способа существования. В этом случае речь идет даже не об интерпретации М. Бахтина, а, скорее, о своеобразном эксперименте по изобретению новых возможностей жизни [6, с. 127].
Предпосылки для рассмотрения идей М. Бахтина в связи с социологической проблематикой находим в работах Ю. Давыдова, 3. Каримовой, С. Легезы.
3. Каримова подчёркивает, что почти все главные понятия М. Бахтина несут в себе социологический смысл, который может быть раскрыт, выражен, дискутирован [8, с. 11]. Западными авторами уже давно развиваются такие интересные направления исследований, как М. Бахтин и постмодернистская деконструкция бинарных оппозиций; проблема тела как социологическая и эстетическая проблема в работах М. Бахтина (П. Хичкок, X,-И. Юнг); бахтинская теория карнавала и проблема маргинальных культур (М. Бернард-Дональс); рефлексивное исследование социологической науки в контексте бахтинской теории языковых и литературных жанров, концепции многоголосия (Д. Смит); М. Бахтин и проблематика формирования социальной идентичности (Д. Пейтер); аналитика повседневности в контексте бахтинских ранних работ (К. Бендер) и другие [7, с. 179-183]. Среди более современных попыток социологического прочтения идей М. Бахтина можно назвать как достаточно традиционные, предпринимаемые в контексте разработки проблематики диалога (Ж. Дюбоск, И. Кльо [16], Ж. Делёз [5]), анализа дискурсов (С. Бранка-Розофф [15]), так и выражающие поиск оригинальных тематических полей, примером чего может служить исследование А. Романа корпоративной электронной почты [17]. В отечественной социологии апелляции к М. Бахтину, за небольшим исключением, ситуативные, что связано, по-видимому, с более выраженными дисциплинарными границами.
Впрочем, по мнению 3. Каримовой, социологическая интерпретация идей М. Бахтина затрудняется не только из-за сложившихся традиций научности, но и из-за особой внутренней организации, логики бахтинского дискурса, которую не так просто «перевести» на язык социологии, не нарушив взаимосвязь ее составляющих. У М. Бахтина все понятия связаны единой нитью. И, тем не менее, принципиального противоречия между стремлением к сохранению аутентичного содержания бахтинских понятий и установкой на раскрытие их эвристического потенциала в социологии нет, важно другое: «найти измерение социологии в философии М. Бахтина, а не наоборот — место М. Бахтина в традиционно понимаемой социологии» [8, с. 14-17]. Хотя ответ на первый вопрос, по всей видимости, влечет за собой и ответ на второй.
Связывая актуализацию идей М. Бахтина с возрастающим интересом социологов к тексту, в том числе литературному, а также с пониманием самой социальной реальности как текстуальной, навеянным постмодернизмом, 3. Каримова рассматривает разрабатываемые М. Бахтиным концепты «избытка прямого значения», «двухголосого слова», «Другого». «Избыток прямого значения» — это категория организации значения, согласно которой значение понимается как незавершенное, обратимое, многоплановое, постоянно поддающееся реинтерпретациям, которое может «оттеняться» значениями, куда более важными, чем прямое, может быть деконструировано и даже доведено до своей противоположности. Но для М. Бахтина избыток прямого значения — это ещё и «избыток человечности», подчеркивает 3. Каримова, а значит, особая теория социальности, текста и субъективности. Избыток прямого значения делает возможным «двухголосое слово», т.е. слово с установкой на чужое слово, не сводимой только к спору или согласию. Двумя полюсами, на разной отдаленности от которых располагаются высказывания с ориентацией на чужое слово, являются диалог и монолог. Существует и пассивная разновидность двухголосого слова, когда чужое слово подчиняется замыслу автора, использующего его в направлении своих собственных устремлений [8, с. 20-27]. Впрочем, диалогичность присуща не только слову, но и всей культуре. Фигура «Другого» играет фундаментальную роль в формировании значения и субъективности в целом, позволяет нам взглянуть на себя «со стороны», преломляя наш опыт через свои оценки, восприятие, мировоззрение. Другой — это и «зеркало», в котором мы видим искаженный образ себя, и полноправный субъект, обладающий своим голосом и кругозором. У М. Бахтина Другой входит в диалог не как выразитель каких-либо идей, а как полноценный субъект, который в своем бытии, конечно, превышает любые идеи. Именно событие встречи Я и Другого является основополагающим для бахтинской структуры значения и его избытка [8, с. 33-35]. Эти концепты, на наш взгяд, могут быть применены и в контексте проблематики социокультурного восприятия Другого в поликультурном обществе, разрабатываемой Ю. Сорокой [12], и в исследованиях «нетипичности» Е. Ярской-Смирновой [14], во всех областях, где на первый план выходит проблема понимания Другого, его жизненного мира.
Интересные историко-социологические работы по М. Бахтину принадлежат Ю. Давыдову [3, 4]. Как отмечает Ю. Давыдов, творческая эволюция М. Бахтина от этической онтологии индивидуально ответственного человеческого поступка к расшифровке его социологического смысла тесно связана с поворотом, произошедшим в социологии во время её первого теоретико-методологического кризиса начала XX в. Этот кризис нашел отражение в творчестве Г. Зиммеля, М. Вебера, которые искали выход из него в утверждении социологии как науки о культуре. И если с зиммелевскими работами М. Бахтин был хорошо знаком, то паралле- ли, проводимые Ю. Давыдовым между М. Бахтиным и М. Вебером, интересны ещё и тем, что М. Бахтин, скорее всего, не был знаком с трудами М. Вебера. А, стало быть, речь идёт о неких объективных обстоятельствах, придавших схожесть интеллектуальному пути двух мыслителей [3, с. 3]. Так, Ю. Давыдов отмечает, что, во-первых, М. Бахтин и М. Вебер следовали одной и той же неокантианской традиции, хотя и тяготели к двум различным её школам, марбургской и баденской соответственно, в своем интеллектуальном движении, впрочем, достаточно быстро выйдя за их пределы. Во-вторых, как М. Бахтин, так и М. Вебер одинаково остро ощущали глубину кризиса европейской культуры, о котором писал Г. Зиммель в известной работе «Понятие и трагедия культуры», к тому времени уже переведённой на русский язык. В-третьих, оба усматривали тесную связь кризиса культуры с кризисом социальногуманитарного знания. В-четвертых, и М. Вебер, и М. Бахтин видели выход из кризиса в переходе на позиции социологического номинализма, в том, чтобы исходить от реального субъекта деятельности, действия и поступка. Согласно этой позиции индивид, его осмысленное действие оказывается основным предметом изучения [3, с. 5-7]. У М. Бахтина, не будем забывать, это было также обращением к феноменологической традиции и жизненному миру. Таким образом, М. Вебер, стремясь ввести социологию в круг наук о культуре, и М. Бахтин, пытаясь поднять социальногуманитарное знание на уровень нового понимания научности, поразительно близко подошли друг к другу, что свидетельствует об общности тех проблем, которые их занимали [3, с. 14]. Это ещё раз побуждает искать социологическое измерение творчества М. Бахтина, открывая тем самым новые измерения в самой социологии.
С. Легеза применяет бахтинский концепт «хронотопа» в исследовании компьютерных виртуальных ролевых игр как феномена массовой культуры современного общества. Как отмечает С. Легеза, вполне логично предположить наличие в игре определённого хронотопа как «слияния пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом» [9, с. 485]. Заложенная М. Бахтиным система исследования хронотопа, присущего тому или иному тексту, предусматривает последовательное соотношение трех пластов: времени, пространства и героя, или действующего субъекта [9, с. 486]. Автор исследует репрезентации каждого из них в пространстве виртуальной ролевой игры, которая может быть представлена как «текст» [9, с. 485]. Надо сказать, что концепт «хронотопа», к которому обращается С. Легеза, предлагается М. Бахтиным уже после тематизации «действительно мира жизни», развернутой им в ранней основополагающей работе «К философии поступка». И такой ход мысли вполне понятен, ведь сначала мы всегда сталкивается с реальностью собственной жизни, хронотоп которой является для нас архетипом всех остальных, а потом уже с реальностью текста. Изложение принципов архитектоники «действительного мира жизни» — вот что является отправным пунктом в литературоведческих, философских, социологических поисках М. Бахтина.
Целью нашей статьи, таким образом, является прояснение особенностей бахтинского концепта «действительного мира жизни», возможностей и границ его социологического прочтения. Для нас важен поиск нового видения «жизненного мира», которое бы дополняло его феноменологические трактовки, наиболее известную из которых в социологии предложил А. Шюц, и делало возможным использование данного концепта в противоречивой современности.
Уже в первой опубликованной работе М. Бахтина «Искусство и ответственность» (1919) мы обнаруживаем специфический способ видения мира как множественности миров, характерный для большинства феноменологических трактовок «жизненного мира» [2, с. 5-6]. По всей вероятности, это результат влияния идей Э. Гуссерля, которое безошибочно улавливается по понятиям «мира», «кругозора», «окружения», которыми пестрят ранние работы М. Бахтина. Это не удивительно, так как первым переводом «Логических исследований» Е. Гуссерля, как отмечает А.М. Олива, был перевод на русский, появившийся уже в 1909 г. Идеи феноменологии активно обсуждались в России начала XX в., и М. Бахтин не мог быть с ними не знаком [10]. Впрочем, на наш взгляд, речь идёт не о повторении, а, скорее, о предвосхищении будущего развития мысли, ведь Э. Гуссерль подошел вплотную к проблеме «жизненного мира» только в 30-е гг. XX в. Не менее заметно и влияние, оказанное на М. Бахтина неокантианством, которое выразилось в преобладании в его работах этической проблематики.
Архитектонике «действительного мира жизни» должна была быть посвящена первая часть масштабного труда, набросок которого М. Бахтин делает в работе «К философии поступка», вторая — этике художественного творчества, третья — этике политики и последняя — религии. Более-менее полно была реализована только вторая часть, воплотившаяся в работе «Автор и герой в эстетической деятельности», которую 3. Каримова, подчеркивая ее социологическую значимость, называет «блестящей работой о структуре субъективности и началах социальности» [8, с. 16-17]. Несмотря на то что замыслы М. Бахтина не были полностью реализованы, работа «К философии поступка» в несколько сжатом виде все же дает представление об особенностях бахтинского видения жизненного мира.
М. Бахтин исходит того, что как теоретическое мышление, так и историческое изображение-описание и даже эстетическая интуиция создают принципиальный раскол между содержанием-смыслом конкретного акта деятельности — его объективацией в культуре — и исторической действительностью его бытия. В результате два мира противопоставляются друг другу: мир культуры, включающий науку, искусство, историю и другие объективные области, и мир жизни, в котором мы действительно живем и умираем, познаем и творим [2, с. 7]. Эта разобщенность культуры и жизни ощущается трагически, особенно если желать и уметь «участно мыслить», т.е. «не отделять своего поступка от его продукта, а относить их и стремиться определить в едином и единственном контексте жизни как неделимые в нем» [2, с. 21]. Как помним, для А. Шюца, в большей степени усвоившего феноменологическую традицию научности, эта проблема не стоит так остро, а сводится к проблеме описания опыта, полученного в разных конечных областях значений жизненного мира, единство которого достигается единством переживающего разные состояния напряженности сознания [13, с. 427-428]. Социальный ученый понимается А. Шюцем как бесстрастный (а значит, и безучастный) наблюдатель, который в своей исследовательской установке отвлекается от всех прагматических мотивов, руководящих им в повседневной жизни, хотя и остается при этом человеком среди других людей в интерсубъективном жизненном мире [13, с. 198-199]. Если для А. Шюца проблема разобщенности различных миров культуры сугубо научная, то для М. Бахтина ещё и экзистенциальная, и этическая.
Как утверждает М. Бахтин, дуализм культуры и жизни, мысли и единственной конкретной действительности невозможно преодолеть изнутри мира теоретического познания, ведь только мы совершаем акт отвлечения — сразу же оказываемся во власти «имманентной законности» той или иной культурной области, по которой она автономно развивается. Так, мир техники, подчиняясь в своем развитии собственному имманентному закону, предопределяет безудержное совер шенствование смертоносных орудий, «врываясь» в единственное единство жизни. Впрочем, экспансия мира техники — это только частный и наиболее опасный случай стремления некоего обособленного мира выдать себя за весь мир в целом [2, с. 11-12]. Никакой теоретический мир не может исчерпать собою всю жизнь, заменить собою всю жизнь. Было бы это так, мы «отбросили бы себя из жизни как ответственного рискованного открытого становления-поступка» [2, с. 13], ведь теоретический мир построен в принципиальном отвлечении от факта «я есть», в нём нельзя жить и ответственно поступать.
Если попытки изнутри теоретического мира пробиться в действительное бытие-событие безнадежны, если «нельзя разомкнуть теоретически познанный мир изнутри самого познания» [2, с. 16], то, возможно, это удастся сделать через мир искусства? Согласно М. Бахтину, нет. Для эстетического видения, продукт которого отвлечён от действительного акта видения, единственное бытие-событие также неуловимо. Полученный в отвлечении от действительного субъекта видения мир эстетического видения не есть действительный мир жизни, хотя и «ближе» к нему, чем теоретический и теоретизированный мир. «В эстетическом бытии, — пишет М. Бахтин, — можно жить, и живут, но живут другие, а не я, — это любовно созерцаемая прошлая жизнь других людей, и всё вне меня находящееся соотнесено с ними, себя я не найду в ней, но лишь своего двойника-самозванца, я могу лишь играть в нём роль, т.е. облекаться в плоть-маску другого — умершего» [2, с. 21]. Эстетический мир — лишь момент единого и единственного бытия-события.
Стало быть, согласно М. Бахтину, ни теоретическое познание, ни эстетическая интуиция не дают возможности подступиться к единственно реальному миру-событию, но если так, то каким может быть принцип приобщения объективированной культуры действительному миру жизни, как исцелиться от этой расколотости, которая не ощущалась А. Шюцем, но была глубоко прочувствована ещё Г. Зиммелем? По мнению М. Бахтина, такое включение возможно через действительный ответственный акт-поступок. «Мир как содержание научного мышления, — пишет М. Бахтин, — есть своеобразный мир, автономный, но не отъединенный, а через ответственное сознание в действительном акте-поступке включаемый в единое и единственное событие-бытия» [2, с. 16]. То же касается мира эстетического видения и других культурных миров, ведь в поступке акт деятельности — теоретическое дис- курсивное познание, эстетическая интуиция, историческое описание или какой бы то ни было ещё — обретает, наконец, единый план в своем смысле и в своем бытии.
Номиналистический поворот М. Бахтина значительно радикальнее того, который был осуществлён М. Вебером, и означал признание социального действия атомом социального. Для М. Бахтина индивидуально-ответственным поступком является и мысль, и слово, и действие, и вся жизнь как сплошное «поступление». «Я поступаю всею своею жизнью», — пишет М. Бахтин [2, с. 8]. Действительно свершающийся в жизни-событии поступок снимает всякую гипотетичность, неопределённость, он «последний итог, всесторонний окончательный вывод» [2, с. 29]. Такая концептуализация поступка позволяет М. Бахтину трактовать кризис современного общества, т.е. общества начала XX в., как кризис поступка. Согласно М. Бахтину, современный человек уверенно поступает там, где его принципиально нет — в различных автономных областях культуры, великолепных в своей стройности, но далеко не так уверенно в действительном мире жизни, где он «имеет с собою дело» [2, с. 23]. Концепт «кризиса поступка» М. Бахтина актуализируется современными трактовками общества как капиталистического, поликультурного, общества потребления, в контексте которых человеческие отношения находятся под угрозой замещения отношениями эксплуатации, дискриминации, потребительства.
У М. Бахтина жизнь и поступок, онтология и этика соединяются воедино, потому жизненный мир — это одновременно и «действительный мир поступка», архитектоника которого может быть феноменологически вскрыта. Что касается понятия «архитектоники», то оно употребляется М. Бахтиным и в качестве философской категории, отсылая в таком значении к кантианской традиции, и в качестве эстетического и искусствоведческого понятия. В более поздней работе «Автор и герой в эстетической деятельности» архитектоника понимается М. Бахтиным как некий организационный принцип, «воззрительно необходимое, не случайное расположение и связь конкретных, единственных частей и моментов в завершённое целое», которая относительно подлежащих творческому оформлению моментов может быть рассмотрена в ценностном, временном, пространственном и смысловом измерениях [2, с. 70]. Впрочем, с оговорками это определение может быть отнесено и к действительному миру жизни.
«Мир-событие, — пишет М. Бахтин, — не есть мир бытия только, данности, ни один предмет, ни одно отношение не дано здесь как просто данное, но всегда дана связанная с ними заданность: должно, желательно» [2, с. 32]. Предмет, если он в какой-либо форме не переживается нами, не может быть осознан. Потому в действительном мире жизни все предметы даны в некотором событийном единстве, где неразделимы моменты заданности и данности, бытия и долженствования, бытия и ценности. Заговорив о предмете, мы тем самым становимся к нему в неиндифферентное, «заинтересованно-действенное» отношение, ведь произнесенное слово не может не интонировать, своей интонацией оно выражает наше отношение к предмету, делая его моментом живой событийности [2, с. 32]. Всё в мире-событии переживается как «данность-заданность», интонируется, имеет «эмоционально-волевой тон», как выражается М. Бахтин, т.е. существует в соотнесении с субъектом, переживающим этот мир. В терминологии А. Шюца мы бы сказали, что все объекты жизненного мира занимают то или иное место в системе релевантности субъекта, или, согласно X. Ортеге-и-Гассету [11], «что-то значат для нас» в жизненном мире как прагматической реальности. Такие параллели не случайны и свидетельствуют об общности теоретических истоков концепций столь разных мыслителей.
Жизненный мир в концептуализации М. Бахтина я-центрирован, как и у А. Шюца, и X. Ортеги-и-Гассета, однако для М. Бахтина признание онтологической единственности, незамес-тимости и неповторимости занимаемого человеком места в единственный момент времени и точке пространства заключает в себе глубоко этический смысл. Ведь «то, что мною может быть совершено, никем и никогда совершено быть не может» [2, с. 39], а раз так, то я персонально ответственен за свое бытие, за то место, которое в нём занимаю и которое не может быть ни оставлено мною, ни отобрано у меня кем-то, разве что смертью. Это положение вошло в историю гуманитарных наук как «не алиби человека в бытии», отображающее своеобразный переход М. Бахтина от онтологии к этике, которые, впрочем, «связываются» не сами по себе, а путём признания человеком ответственности за то единственное место, которое он занимает в жизни.
Принимаем ли мы факт нашего «не алиби в бытии» или нет, жизненный мир остаётся я-центрированным миром, в котором «только я-для-себя я, а все другие — другие для меня» [2, с. 43]. В действительном мире жизни нет человека во- обще, как в мире науки, а есть определённый конкретный другой: близкий, современник, прошлое и будущее действительных людей. Поскольку ценностным центром действительного мира жизни является не развоплощенный безучастный субъект, а конкретный человек, то всё приобретает смысл в соотнесении с этим действительным человеком [2, с. 44]. Ценностный смысл смерти всякого другого человека — любимого, близкого, знакомого или незнакомца — глубоко различный, ведь «никто не живёт в мире, где все люди равно смертны» [2, с. 45].
В «Философии поступка» проблема архитектоники жизненного мира ещё не раскрыта в полной мере, речь идёт о трёх её главных моментах: я-для-себя, другой-для-меня и я-для-другого [2, с. 49]. Как отмечает М. Бахтин, все ценности действительной жизни и культуры — научные, эстетические, политические, религиозные — расположены вокруг этих основных «архитектонических точек действительного мира жизни» [2, с. 49], к которым «стягиваются» все пространственно-временные и содержательно-смысловые ценности и отношения. В этих трёх моментах находит свое выражение высший принцип действительного мира жизни — конкретное архитектоническое противопоставление я и Другого. Чтобы показать возможность описания «действительной конкретной архитектоники ценностного переживания мира» [2, с. 56], где пространственным, временным и ценностным центром является человек, оценивающий и поступающий, а предметы взяты в их действительных конкретных событийных отношениях друг с другом, М. Бахтин обращается к анализу мира эстетического видения, который своей конкретностью и эмоциональноволевым тоном, расположением вокруг ценностного центра — смертного человека — наиболее близок действительному миру жизни [2, с. 56]. Хотя произведение фантастического жанра, разумеется, может и не иметь своим центром смертного человека, тем самым максимально удаляясь от повседневного жизненного мира, в котором над нами, согласно А. Шюцу, властвует «фундаментальная тревога» [13, с. 442].
С этой целью М. Бахтин анализирует архитектонику лирической пьесы А. Пушкина «Разлука», что чрезвычайно интересно в перспективе развития нарративного анализа в социологии, ведь нарратив тоже можно рассматривать как художественное произведение, а его «героя» — как объективированного автора. Сюжет пьесы таков: возлюбленная героя уезжает на родину и там умирает, оставив в его памяти уже неисполнимое обещание встречи. Прототипом героини этого произведения, по всей видимости, является Амалия Ризнич, которой поэт был увлечён во время своего пребывания в Одессе летом 1823 г. Как известно, на следующий год А. Ризнич по настоянию врачей уехала в Швейцарию, затем в Италию, где вскоре умерла [6].
М. Бахтин показывает, что в пьесе все конкретные моменты архитектоники получают значение в соотнесении с двумя ценностными центрами: героем и героиней. Один и тот же предмет различен как событийный момент различных ценностных контекстов. Так, в ценностном контексте героини Италия это — «родина», а в ценностном контексте героя — «чужбина». Все события получают свое значение в соотнесении с этими двумя ценностными центрами: «отбывание» для нее — «возвращение», для него — «покидание» ит.д. [2, с. 60-66]. В тексте нарратива [14] мы также сталкиваемся с подобной архитектоникой, в которой события, предметы, другие ценностные контексты, пространственно-временные характеристики даны в соотнесении с ценностным центром автора-героя, находящегося вне этой архитектоники (впрочем, в исповеди автор и герой максимально сближаются, почти совпадая). Таким образом, бахтинский анализ открывает новые возможности исследования значения микро- и макросоциальных событий в жизненном мире личности, архитектоника которого предположительно раскрывается в тексте нарративного интервью.
Сделаем некоторые выводы. Во-первых, экспозиция попыток социологической интерпретации творческого наследия М. Бахтина показывает, что такая интерпретация возможна в самых разнообразных направлениях: социологии языка, текста, идентичности, а также и жизненного мира, темати-зация которого стала отправным пунктом интеллектуальных поисков М. Бахтина. Во-вторых, переход М. Бахтина от описания архитектоники действительного мира жизни к описанию архитектоники художественного произведения, транскрибированный на язык социологии, означает переход от исследования жизненного мира к исследованию текста как его «слепка». А значит, эвристичным может оказаться социологическое прочтение работ М. Бахтина, посвященных архитектонике художественных произведений. Особенно интересным подобное исследование представляется в перспективе развития нарративного анализа в социологии. В-третьих, этическая трактовка жизненного мира, осуществлённая М. Бахтиным, позволяет увидеть новые ориентиры в профессиональной этике социолога. Перефразируя М. Бахтина, можно ска- зать: «За то, что я пережил и понял в социологии, я должен отвечать своей жизнью и, наоборот, за то, что я понял в жизни, — должен отвечать в науке социологии». Иначе и наука, и жизнь обедняются, не будучи связанными единством конкретной личности.
Список литературы Возможности и перспективы использования концепции М. Бахтина в социологической интерпретации жизненного мира
- Бахтин М.М. (Под маской). Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка: статьи/сост., текст. подготовка И.В. Пешкова; коммент. В. Л. Махлина, И.В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2000. 640 с.
- Бахтин М.М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1: Философская эстетика 1920-х годов. М.: Русские словари: Языки славянских культур, 2003. 958 с.
- Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и Михаил Бахтин (к введению в социологию XX)//Социологические исследования, 1996. № 9. С. 3-14.
- Давыдов Ю.Н. Трагедия культуры и ответственность индивида (Г. Зиммель и М. Бахтин)//Вопросы литературы. 1997. № 4. С. 91-125.
- Делёз Ж. Переговоры. 1972-1990/пер. с фр. В.Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2004. 235 с.
- Ионкис Г. Лёгкое дыхание//Слово\\Уогс1 2006. № 51. URL: http://magazines.russ.ru/slovo/2006/51/io1.html (дата обращения: 19.06.2014).
- Каримова З.З. Бахтин в зеркале социологии и диалогики//Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1999. № 1. URL: http://www.nevmenandr.net/dkx/?y= 1999&n= 1 &ab s=KARIMOVA (дата обращения: 20.06.2014).
- Каримова З.З. К вопросу о социологической интерпретации М.М. Бахтина//Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1999. № 4. URL: http://nevmenandr.net/dkx/?y=1999&n=4&abs=KA RIMOVA (дата обращения: 20.06.2014).
- Легеза С.В. Хронотоп виртуальных ролевых игр: «реальность вымысла» и «новая мифопо-этика»//Методология, теория и практика социологического анализа современного общества: сб. науч. работ. Харьков: Изд. центр Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина, 2002. С. 495-489.
- Олива А.М. Влияние идей феноменологии на понятие «дискурсивного взаимодействия» бахтинского диалогического кружка//Вопросы философии. 2012. № 1. С. 144-160.
- Ортега-и-Гассет X. Избранные труды: пер. с исп./сост., предисл. и общ. ред. A.M. Руткевича. М.: Весь Мир, 1997. 704 с.
- Сорока Ю. Свои, чужие, разные: социокультурная перспектива восприятия Другого: монография. Харьков: Изд. центр Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина, 2012. 332 с. (на укр. яз.).
- Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом: пер. с нем. и англ. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 1056 с. (Серия «Книга света»).
- Ярская-Смирнова О. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов: СГТУ, 1997. 272 с.
- Branca-Rosoff S. Normes et genres de discours//Langage et societe. 2007. March № 119. P. 111128.
- Duboscq J., Clot Y. L'autoconfrontation croisee comme instrument d'action au travers du dialogue: objets, adresses et gestes renouveles//Revue d'anthropologie des connaissances. 2010. Vol. 4, No°2. P. 255-286.
- Roman A. La banalisation du mail: l'ombre de dionysos dans la communication organisationnelle//Societes. 2010. No 107. P. 87-102.