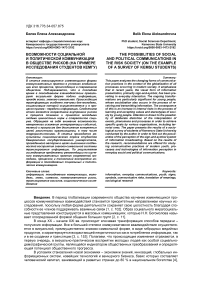Возможности социальной и политической коммуникации в обществе рисков (на примере исследования студентов КемГУ)
Автор: Белик Е.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются изменяющиеся формы коммуникативных практик в условиях глобализации всех процессов, происходящих в современном обществе. Подчеркивается, что в последнее время в повседневном взаимодействии превалирует визуальная форма подачи информации, прежде всего, знаково-символьная. Происходящие трансформации особенно значимы для молодежи, социализация которой осуществляется и в процессе приема - передачи информации. Следствием этого является возрастание внутренних рисков в процессе познания и принятия молодыми людьми ценностных норм и стереотипов социума. Обращает на себя внимание возможность намеренного искажения интерпретации событий, явлений и процессов для достижения конкретных целей различными организациями, в том числе террористическими. В статье приводятся результаты социологического опроса студентов Кемеровского государственного университета, проведенного автором в целях выяснения особенностей восприятия знаково-символьной системы транслирования информации. По результатам исследования предложены рекомендации по изучению коммуникативных практик современной молодежи, процессов и технологий восприятия информации в повседневных социальных и политических коммуникациях.
Информация, повседневные коммуникации, молодежь, знаки, символы, коммуникативные риски, транслирование смыслов, социологические исследования
Короткий адрес: https://sciup.org/149134459
IDR: 149134459 | УДК: 316.776.34-057.875 | DOI: 10.24158/tipor.2021.2.6
Текст научной статьи Возможности социальной и политической коммуникации в обществе рисков (на примере исследования студентов КемГУ)
В конце ХХ – начале XXI вв. происходит ключевая трансформация способов передачи – получения информации. Все в большей степени коммуникативное взаимодействие осуществляется в визуальной, преимущественно знаково-символьной форме, в виде гибридных медийных продуктов, и характеризуется возрастающей некритичностью как в потреблении информации, так и в ее создании и трансляции [3, с. 153]. Полагаем, что происходящие изменения отражаются, в первую очередь, в визуально-практическом восприятии молодых людей как особой социальнодемографической группы, являющейся индикатором общественных преобразований и определяющей потенциал общественного прогресса.
В условиях становления новой экономики – экономики знаний, инноваций, глобальных информационных систем, новейших технологий и венчурного бизнеса, базис которых составляет человеческий капитал, занимающий в развитых странах до 80 % в национальном богатстве [4], потенциал молодежи как его перспективной основы приобретает особое значение. Формирование экономической, интеллектуальной, общественно-политической и символической платформ коммуникации молодежи происходит с учетом особенностей социализации в постиндустриальный период развития общества. Повсеместная виртуализация и визуализация повседневных коммуникаций влекут за собой возрастание внутренних или субъективных рисков, возникающих в процессе интеграции молодых людей в структуру общества.
Учитывая происходящие изменения, мы задумались о необходимости проведения исследования в целях определения приоритетов современных молодых людей в «потреблении» информации, прежде всего, с позиции визуальной социологии - сравнительно нового направления науки, отражающего возросшую озабоченность визуальным восприятием социального мира.
Методы и материалы . Концептуальная структура визуальной социологии предполагает использование семиотического интерпретативного анализа визуальных продуктов культуры и общества [5]. Изображения - часть коммуникативных стратегий, они обычно используются, чтобы рассказать или сообщить какую-либо историю [6, с. 144]. Визуальная культура доминирует сегодня в нашей повседневности. Все в большей степени коммуникация носит визуальный (медиативный) характер, а в визуальном превалирует коммуникативная функция. Однако для целей нашего исследования было важно не просто выяснить возможные особенности коммуникативного взаимодействия современной молодежи, но и акцентировать внимание на рисках, возникающих в процессе социализации молодых людей. Наше исследование проводилось в мае - июне 2019 г. при помощи сотрудников Центра изучения этноконфессиональных конфликтов и противодействия экстремизму в молодежной среде, созданного на базе Кемеровского государственного университета (КемГУ). В практическом плане нами был проведен очный анкетный опрос 426 студентов первого и второго курсов. Интересен практический срез - информация глазами молодых людей, социализирующихся в новые коммуникативные приемы повседневного взаимодействия.
Результаты исследования . Информационная культура выступает неотъемлемой частью социализации молодежи. Транслируемые СМИ и Интернетом социально разделяемые образцы поведения, нормы и ценности определяют концепции взаимодействия и групповые ожидания молодых людей. Коммуникативная среда Интернета привычна для молодежи и органично вписана во многие ее повседневные практики - развлечения, поиск информации, чтение новостей и т. д. [7, с. 120].
Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о сформированной у современной молодежи привычке постоянного пользования Интернетом, мобильными и «облачными» гаджетами. При этом в большей степени коммуникации выстраиваются вне рамок функциональных, профессиональных и прочих задач. Так, подавляющему большинству респондентов (328 из 426 чел.) нравится проводить свободное время, «сидя в Интернете», т. е. подолгу находиться в виртуальном пространстве. Потенциал постоянных пользователей виртуальных услуг представлен в табл. 1.
Таблица 1 - О приоритетах времяпрепровождения студенческой молодежи в Интернете (анкетный опрос студентов КемГУ, n = 426)
|
Предпочтение |
«Сидеть в Интернете» |
|
|
Частота |
% |
|
|
Не нравится |
30 |
7,0 |
|
Скорее не нравится |
58 |
13,6 |
|
Скорее нравится |
150 |
35,2 |
|
Нравится |
178 |
41,8 |
|
Не ответили на вопрос |
10 |
2,4 |
|
Всего |
426 |
100 |
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что Интернет стал частью реальности, замещающей (сопровождающей) повседневную жизнь и отчасти компенсирующей воздействие материальных факторов на жизнь и перспективы развития общества. При этом количество получаемой информации претерпевает порядковые качественные изменения, т. к. увеличиваются объемы и платформы виртуального взаимодействия. В этой связи риски и угрозы персональной физической изоляции, вероятно, способны увеличивать информационно-коммуникативную привязанность к среде глобальной коммуникации.
Кроме того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что мобильные коммуникационные устройства воспринимаются современной молодежью не только как устройства, обладающие технической возможностью обеспечить общение 24 часа в сутки (так ответило 64,3 % респондентов), а, прежде всего, как коммуникационные системы, обеспечивающие доступ к Интернету как к одному из самых достоверных и приоритетных, по мнению респондентов, источнику информации (табл. 2).
Таблица 2 – Оценка молодежью достоверности используемых источников информации (анкетный опрос студентов КемГУ, n = 426)
|
Варианты источников информации |
Какому источнику информации Вы доверяете в большей степени? |
|
|
Частота |
% |
|
|
Печатные СМИ |
74 |
17,4 |
|
Телевидение,радио |
102 |
23,9 |
|
Знакомые, родственники |
51 |
12,0 |
|
Интернет |
161 |
37,8 |
|
Единомышленники, коллеги |
6 |
1,4 |
|
Слухи, разговоры |
1 |
0,2 |
|
Иное |
30 |
7,0 |
|
Не ответили на вопрос |
1 |
0,3 |
|
Всего |
426 |
100 |
Интерпретация полученных данных дает основание полагать, что в эпоху цифровых технологий социальная структура общества, а также взаимосвязи становятся все более детермени-рованными технологически, а влияние Интернета на социальные, экономические и культурные отношения влечет за собой доминирование «мультимедийных» отношений над традиционными. При этом общение в интернет-среде из традиционных видов коммуникации, таких как электронная почта и интернет-телефония, плавно переходит в мессенджеры, которые по аналогии с социальными сетями агрегируют в себе функции всех вышеперечисленных платформ. Одновременно с этим повышается спрос на графическую, аудиовизуальную информацию [8, с. 59].
Таким образом, можно сделать предположение о том, что в современных условиях в виртуальном пространстве происходит подготовка (своеобразный сетевой коучинг) заинтересованных людей/пользователей к социальным акциям [9, с. 116], сопровождаемая различными технологиями. Но, разумеется, информация передается и путем непосредственного (офлайн) контакта двух и более участников коммуникации. Эти формы мобилизации активных пользователей могут политизироваться как в силу внешних воздействий (целевые программы, политические проекты), так и в рамках самостоятельного интереса молодежи к социально-политическим процессам.
Результатом этого, по нашему мнению, становится многократное возрастание рисков и угроз в процессе коммуникативных взаимодействий, например, осуществление направленного воздействия в противоправных целях (склонение к совершению суицида, вовлечение в деятельность организаций экстремистского толка, разжигание межнациональной розни и т. п.), в том числе с использованием технологии провокации [10, с. 14]. По мнению В.Н. Степанова, «понятие “провоцирование” обозначает символическое представление (“показывание”) говорящим реально испытываемых или имитируемых эмоций, чувств, состояний с целью заразить ими собеседника и вызвать у него аналогичное внутреннее состояние, которое не соответствует его актуальному состоянию» [11, с. 10].
В связи с этим особый интерес представляют возможности знаково-символьной формы передачи информации, обладающей, по нашему мнению, способностью целенаправленно, в том числе латентно, трансформировать процессы социализации молодежи. В глобальной неоднородной информационной среде некоторые интерпретации событий, явлений и процессов для достижения конкретных целей могут намеренно искаженно транслироваться различными социальными объединениями (организациями), в том числе террористическими. Образ жизни, интересы, потребности, мотивация, средства достижения цели могут оказывать влияние на решение молодых людей принять участие в противоправных, экстремистских и террористических акциях.
С.Б. Калинина отмечает, что «в результате активного использования членами запрещенной в России террористической организации “Исламское государство” (ИГ) пиар-технологий 84 % молодых людей пришли в ее ряды посредством сети Интернет; 47 % обратили внимание на материалы (видео и текст), размещенные онлайн; 41 % присягнули на верность ИГ онлайн. Вербовщиками активно ведется подготовка и распространение профессиональной видеопродукции, где красочно показывается якобы “благополучная” жизнь боевиков» [12]. Террористическими организациями используются символы (флаги, эмблемы, униформа и т. п.), которые являются инструментами социальной интеграции в последовательных процессах осуществления деструктивной коммуникации. «Как инструменты общения символы делают возможным консенсус по поводу смысла социального мира» [13, с. 91].
Р. Борум утверждает, что символы представляют террористические группы более привлекательными как социальные коллективы, даже если человек, присоединяющийся к группе, не до конца верит в ее идеологию [14]. Это утверждение совпадает с позицией известного американского политолога Дж. Ная, который считает, что политические символы, наряду с остальными, являются одним из способов воздействия на людей путем создания влияющих на сознание визуальных или аудиообразов, представляя собой «мягкую» политическую силу [15].
Символ – это сжатый смысл, своеобразный «ярлык», образ, выражающий суть какого-либо явления. Символ неотделим от его образной структуры и отличается неисчерпаемой многозначностью своего содержания [16]. Интерпретация символа подразумевает построение его смысла субъектами коммуникации, что является, с одной стороны, индивидуальной коммуникативной деятельностью, с другой – общественно навязанной (надындивидуальной, согласно Э. Дюркгейму). При этом виртуальные образы как объекты социальной жизни «включаются в движение нарратива, в результате чего теряют свою безличность и приобретают принадлежность к социальному миру» [17, с. 142].
Мы полагаем, что террористическими организациями вовлечение субъекта отношений в сферу своих интересов достигается среди прочего путем проведения на постоянной основе информационно-коммуникативных мероприятий, в число которых входит распространение/внедре-ние собственной символики, являющейся «рекламой», способом самоидентификации членов террористической организации и придания ей видимости легитимности (легальности), а также средством изменения стандартов социального поведения, тем более эффективным в отношении молодежи. В качестве примера также можно привести данные по запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», члены которой активно используют социальные сети, анализируя фотографии и комментарии пользователей с целью последующего контакта и вербовки, а также распространяя в социальных сетях собственную медиапродукцию [18], осознавая особую роль визуальных представлений в постсовременном обществе.
В целях определения особенностей восприятия современной молодежью информации в повседневных коммуникациях нами в рамках указанного выше исследования было предложено студентам ответить на вопросы о наиболее удобной для них форме получения информации. При этом понятия «графическое изображение», «атрибутика», «рекламная продукция» намеренно не были конкретизированы, т. к. целью исследования являлось получение данных, прежде всего, об ощущениях («комфорте») респондентов в процессе получения информации (табл. 3).
Таблица 3 - Определение наиболее удобной для восприятия студенческой молодежью формы подачи информации (анкетный опрос студентов КемГУ, n = 426)
|
Какие формы представления информации Вы легко воспринимаете? |
||
|
Частота |
% |
|
|
Графические изображения |
250 |
58,7 |
|
Рекламная продукция |
45 |
10,6 |
|
Атрибутика |
17 |
4,0 |
|
Словесные высказывания |
30 |
7,0 |
|
Музыка |
42 |
9,9 |
|
Тексты |
28 |
6,6 |
|
Другое |
7 |
1,6 |
|
Не ответили на вопрос |
7 |
1,6 |
|
Всего |
426 |
100 |
В результате исследования установлено, что лучше всего молодежью воспринимаются графические изображения. Такая форма транслирования информации более чем в 8 раз удобнее для молодых людей по сравнению с устной (словесные высказывания) и письменной (тексты) речью. Кроме того, в ходе исследования установлено, что если графическое изображение представляет собой неизвестную символику, то из 426 опрошенных узнавать ее значение готовы 39,4 %, иногда – 38,5 %, что в совокупности составляет 77,9 %, и никогда только 21,6 % из числа респондентов (табл. 4).
Таблица 4 - Об отношении студенческой молодежи к неизвестной символике в повседневных коммуникациях (анкетный опрос студентов КемГУ, n = 426)
|
Если Вы видите непонятные символы, хочется ли определить/узнать их значение? |
||
|
Частота |
% |
|
|
Да |
168 |
39,4 |
|
Нет |
92 |
21,6 |
|
Иногда |
164 |
38,5 |
|
Не ответили на вопрос |
2 |
0,5 |
|
Всего |
426 |
100 |
Изображения представляют собой источники информации о различных аспектах социальной и культурной жизни. В области производства изображения особый интерес представляет выяснение мотивов, стереотипов и идей, которые вкладывает автор в создаваемый объект. Как социально-политическое явление терроризм состоит из разных смыслов, неотъемлемой частью которых является символика экстремистских и террористических организаций, представляющая собой условное обозначение не только самой организации, но и ее идейного содержания, определяющая главные и существенные ее черты, форму общения, а также являющаяся одним из методов достижения политических целей. Использование террористическими и экстремистскими организациями символики в повседневной жизни общества можно расценивать и как «рекламу», организованную в целях вовлечения в незаконную деятельность молодых людей, «постоянный приток» которых позволяет спрогнозировать перспективу и обеспечить дальнейшее существование организации. И даже если террористическая группа не достигает своей номинальной цели, это не означает, что влияние символов не является эффективным. Результативность заключается в принятии и распространении идеологии террора, увеличении нетерпимости к другим этническим группам, пробуждении желания сражаться за идею и т. п. [19, с. 123]. И это является реальной угрозой для современного общества.
Как отметил председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин, в 2018 г. 99 учащихся российских школ и вузов стали фигурантами уголовных дел об экстремизме, а всего из выявленных 894 экстремистов 282 человека – это молодежь [20]. В качестве примера также можно привести размещенную на сайте РИА-Новости информацию о том, что 8 апреля 2020 г. полицией безопасности Эстонии был задержан основатель и руководитель международной неонацистской группировки Feuerkrieg Division (FKD) – 13-летний школьник. Возраст большинства участников группы вероятнее всего младше 20 лет, а некоторые из них являются несовершеннолетними. Все управление группой происходило онлайн, в основном участники распространяли пропагандистские плакаты и флайеры, но также обсуждали изготовление взрывных устройств, приобретение и модификацию холодного и огнестрельного оружия [21].
Каждый человек обладает своей системой ценностей, которая определяет его действия и влияет на принимаемые решения. Не существует одинакового для всех пути, пройдя который человек становится террористом. Возможные движущие силы террористической радикализации разнообразны и в конкретных практиках способны сочетаться уникальным образом. Мы полагаем, что это явление следует рассматривать в совокупности возможностей интерактивных коммуникаций, сочетания индивидуальных оценок пользователей и установок внешних социальных воздействий.
Заключение . По словам К. Юнга, «слово или изображение символичны, если они подразумевают нечто большее, чем их очевидное и непосредственное значение» [22, с. 17]. По мнению американского психолога Дж. Брунера, язык – инструмент самого общего плана, который только дает направление и инструкции для наших органов чувств и мыслительных способностей. Для экономии мускульных усилий были придуманы специфические инструменты – схемы, экономящие время и силы при восприятии, которые реализуются в придуманных людьми рисунках, диаграммах и моделях [23, с. 10]. Основоположник символического интеракционизма Дж. Мид полагал, что, используя символ, мы обращаемся к смыслу вещи [24, с. 147]. Когнитивный процесс принятия решения предполагает выбор мнения или курса действий из нескольких альтернативных возможностей. При этом на первоначальной стадии девиантное поведение носит, как правило, латентный характер.
В современных условиях изменение (трансформация) форм социальной коммуникации происходит под влиянием такого универсального источника информации, как Интернет, отличительными особенностями которого являются возможность практически безграничного наполнения интернет-пространства любыми данными, их мгновенные передача и получение, при одновременном формировании зависимости (интернет-аддикции).
Полученные нами результаты позволяют предположить, что «удобная» для восприятия современной молодежи графическая (знаковая, иконическая, символическая) форма транслирования информации может содержать в себе скрытые риски и использоваться деструктивными организациями в целях направленного воздействия на неограниченный круг участников коммуникации для формирования устойчивых ассоциативных связей, порождения суждений и воздействия на мышление, создания определенной реакции и воздействия на поведение. Такой вывод мы делаем на том основании, что большинство опрошенных нами респондентов не только определили «комфортную форму» получения информации, но и показали свою заинтересованность в «узнавании» значения и смысла неизвестных им символов.
На настоящем этапе нашего исследования, безусловно, нет оснований для экстраполяции полученных результатов. Однако, как писал американский социолог Г. Беккер, наблюдая любое изображение, спрашивайте себя, на какой вопрос или вопросы оно могло бы отвечать [25]. Изложенное, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости продолжения исследований в связи с наличием латентных угроз процессам социализации личности, обеспечивающим усвоение молодым поколением ценностных норм и стереотипов, свойственных социуму. Полагаем, что возникающие риски могут быть выявлены и в процессе социологической диагностики, позволяющей спрогнозировать отдаленные последствия происходящих трансформаций форм коммуникативных взаимодействий и конструирования социальной реальности в современной России.
Ссылки:
Редактор, переводчик: Арсентьева Ирина Ильинична
Список литературы Возможности социальной и политической коммуникации в обществе рисков (на примере исследования студентов КемГУ)
- Ильиных С.А. Социология управления: роль зарубежных школ в становлении // Идея и идеалы. 2015. Т. 1, № 2 (24). С. 94-106. https://doi.org/10.17212/2075-0862-2015-2.1-94-106.
- Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. М., 2010. 191 с.
- Ахметова М.В., Байдуж М.И. Международная конференция «Медиатизация культуры: конструирование новых текстов и практик» // Шаги/Steps. 2019. Т. 5, № 1. С. 151-162. https://doi.org/10.22394/2412-9410-2019-5-1-151-162.
- Нестеров Л., Аширова Г. Национальное богатство и человеческий капитал // Вопросы экономики. 2003. № 2. С. 103-110. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2003-2-103-110.
- Harper D.: 1) An Argument for Visual Sociology // Image-based Research: A Sourcebook for Qualitative Researchers / ed. by J. Prosser. L., 1998. P. 24-41; 2) Visual Sociology. N.Y., 2012. 312 p.
- Сергеева О.В. Исследовательское поле визуальной социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2008. Т. 11, № 1. С. 136-146.
- Руденкин Д.В. Виртуальное общение в Интернете и традиционные формы коммуникации в жизни современной российской молодежи: социологический анализ // Медиатизация культуры: конструирование новых текстов и практик: материалы международной научной конференции. М., 2018. С. 119-123.
- Задорин И.В., Сапонова А.В. Динамика основных коммуникативных практик россиян // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2019. Т. 4, № 3. С. 48-68.
- Забокрицкая Л.Д. Информационная культура современной молодежи: угрозы и вызовы виртуального социального пространства // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2017. № 4. С. 114-123. https://doi.org/10.15593/2224-9354/2017.4.10.
- Белик Е.А. Виртуализированное социальное пространство как объект исследования визуальной социологии // Социальные практики и управление : материалы научно-практической конференции с международным участием. Новосибирск, 2018. С. 13-16.
- Степанов В.Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации. СПб., 2008. 268 с.
- Калинина С.Б. Психологические методы вербовки молодежи в террористические организации [Электронный ресурс] // Наука. Общество. Оборона. 2018. № 2 (15). URL: https://www.noo-journal.ru/nauka-obshestvo-oborona/2018-2-15/article-0145/ (дата обращения: 29.01.2021).
- Бурдье П. Социология социального пространства. М.; СПб, 2007. 288 с.
- Borum R. Psychology of Terrorism [Электронный ресурс]. Tampa, 2004. URL: https://scholarcommons.usf.edu/cgi/view-content.cgi?article=1570&context=mhlp_facpub (дата обращения: 29.01.2021).
- Най Дж. «Мягкая сила» и американо-европейские отношения // Свободная мысль. 2004. № 10. С. 33-41.
- Советский энциклопедический словарь. М., 1982. 607 с.
- Ricoeur Р. Oneself as Another. Chicago, 1992. 363 p.
- Сокирянская Е. Проповедь ножа и топора [Электронный ресурс] // Новая газета. 2017. № 127. URL: https://novayaga-zeta.ru/articles/2017/11/11/74515-propoved-nozha-i-topora (дата обращения: 30.01.2021).
- Белик Е.А. Возможности социологической диагностики латентной деятельности террористических организаций в Интернете // Социальная инженерия: как социология меняет мир : материалы IX Международной социологической Гру-шинской конференции. М., 2019. С. 121-125.
- Почти 100 учащихся школ и вузов стали фигурантами дел об экстремизме в 2018 году. Глава СК Александр Бастры-кин назвал закрытые группы и чаты в соцсетях главным инструментом вербовки молодежи [Электронный ресурс] // ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/6174369 (дата обращения: 30.01.2021).
- В Эстонии поймали 13-летнего главу международной неонацистской группы [Электронный ресурс] // РИА-Новости. URL: https://ria.ru/20200408/1569760315.html (дата обращения: 30.01.2021).
- Юнг К. Архетип и символ. М., 1991. 297 с.
- Цит. по: Агеев В.Н. Семиотика. М., 2002. 256 с.
- Мид Дж. Избранное. М., 2009. 290 с.
- Becker H. Photography and Sociology // Studies in Visual Communication. 1974. Vol. 1, iss. 1. P. 3-26.