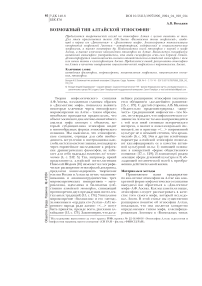Возможный тип алтайской этнософии
Автор: Володин А.В.
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Стратегия дискурса
Статья в выпуске: 4 (73), 2024 года.
Бесплатный доступ
Предлагается теоретический взгляд на этнософию Алтая с целью выявить ее тип. Для этого привлекается текст А.Ф.Лосева «Возможные типы мифологий», входящий в корпус его «Дополнения» к «Диалектике мифа». Анализируется типологизация конкретных мифологий Лосевым - авторитарная, либеральная и социалистическая мифологии, а также некоторые др. Показывается связь этнософии с наукой о мифе Лосева, а также ключевые компоненты этнософии на Алтае. Выявляется спецификум алтайской этнософии: утверждается, что этот спецификум есть сам Горный Алтай. Демонстрируется невозможность полного отождествления алтайской этнософии с тем или иным типом в классификации Лосева. Предлагается вывод: расценивать этнософию на Алтае в качестве инварианта социалистической мифологии в терминологии Лосева.
Алтайская философия, мировоззрение, национальная мифология, национальное сознание, этнософия
Короткий адрес: https://sciup.org/140308622
IDR: 140308622 | УДК: 140.8 | DOI: 10.53115/19975996_2024_04_010_014
Текст научной статьи Возможный тип алтайской этнософии
Общество. Среда. Развитие № 4’2024
Теория мифологического сознания А.Ф. Лосева, изложенная главным образом в «Диалектике мифа», позволила выявить некоторые ключевые черты этнософского мировоззрения на Алтае – таким образом, неизбежно приходится предполагать, что объект лосевского диалектико-понятийного анализа мифа совмещен с объектом, который субдисциплина этнософия видит в многообразных формах этнософического сознания. Мы выяснили, что этнософиче-ское сознание, отрицая для себя необходимость вступления в интернациональноглобалистскую систему знания, восходящую через европейское наследование к рефлексии древнегреческих философов, не избегает для себя надежды охватить всё человечество [4, с. 242; 5]. Так, например, яркий представитель алтайской интеллигенции Николай Шодоев [16] намекает на географическое расширение этнософской доктрины, предлагая консолидировать творческие усилия России и Алтая на путях «взаимопонимания» и «взаимосотрудничества» трех мировоззренческих императивов – материализма, идеализма и биликизма (собственно алтайской этнософии, снимающей противоречия двух предыдущих интеллектуальных традиций) [15, с. 174]. Уникальное мировоззрение «биликизма» и его «метод», заложенные в «сердцах его (Алтая – А.В.) коренного народа ради жизни» «<…> могут быть приняты, прежде всего, русскими алтайцами» [15, с. 173]. Закономерно, что даль- нейшее расширение этнософии умалчивается обещанием «дальнейшего развития» [15, с. 173]. С другой стороны, А.В. Малинов убедительно продемонстрировал «живучесть» традиционной мифологии – тем более, он утверждает, что мифологическое сознание на Алтае не только воспроизводится с той или иной степенью исторического интереса, а значит и интеллектуальной дистанцией, но и присуще «<…> современной культуре не в меньшей степени, чем архаической» [6, с. 50]. Эти и другие устойчивые параметры алтайской этнософии позволяют квалифицировать ее в качестве активной культурной силы: 1) имеющей основание в конкретной «форме общественного сознания» [17, с. 129]; 2) осваивающей рядом лежащие сферы духовной культуры и 3) обладающей политической волей к преображению действительной жизни.
Материалы и методы
Применяемое нами предприятие по аналитике этнософии на Алтае как конкретной форме мифологического сознания вынудило нас обратиться к «Диалектике мифа» А.Ф. Лосева. Как мы заметили выше, этнософию следует рассматривать в качестве того самого мифа, который исследовал Лосев. В этой статье мы существенно расширяем понятие об этнософии Алтая, показывая, что она является конкретно определяемым типом мифа, классифицированным Лосевым в «Возможных типах
* Исследование выполнено за счет гранта РНФ, проект № 22-18.00018 «Этнософия Алтая: идеология и мифология национального сознания» (СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН).
мифологий» [8]. Этой цели посвящена данная статья.
Результаты и выводы.
Изложим порядок мысли А.Ф. Лосева в «Возможных типах мифологий» [8, с. 567–568]:
-
1. Прежде всего исследовано понятие мифа и его диалектическая структура.
-
1.1. Но миф не есть понятие мифа .
-
1.2. Понятие мифа есть «смысловая сердцевина» мифа, а не конкретная мифология .
-
1.2.1. Понятие мифа демонстрирует лишь то, в чем все конкретные мифы тождественны.
-
-
-
2. Необходимо осуществить переход от отвлеченного понятия мифа к конкретному и реальному бытию мифа.
-
2.1. А именно: отвлеченное понятие мифа посредством диалектики гипостазируется в отдельные моменты понятия мифа .
-
Таким образом, Лосев демонстрирует сосуществование понятийной полноты мифа и всех логически входящих в эту полноту «моментов мифа», т.е. реальных мифологий. Логическое вычленение этих моментов он называет здесь «гипостазирование», чуть позже подбирая синонимичное «утверждение» [8, с. 569] – миф типологически локализуется в мифологиях, а последние являются его «инобытием». Гипостазируемый единый и цельный миф порождает две глобальные мифологические области, а именно: 1) «<…> мыслима мифология, которая представляет собою полное и цельное гипостазирование (или утверждение) всех моментов мифа как понятия» [8, с. 569]; и 2) «<…> мыслима мифология, которая представляет собою лишь частичное гипостазирование мифа как понятия, т.е. воплощение и самоутверждение только отдельных его моментов» [8, с. 570]. Первую мифологию Лосев именует мифологией Царства Небесного – это идеальнейшее инобытие мифа, в котором миф так же совершенен, как и до инобытийного перехода. Вторая же мифология сосредоточена на «<…> абсолютизировании личности в ее объективно-субстанциальном или природном бытии» [8, с. 570]. Компонент личности второй мифологии дифференцируется в три исторические парадигмы, каждая из которых презентует абсолютизирование личности . Описание А.Ф. Лосевым этих парадигм можно представить так [8, с. 570–571]:
-
1. Существует восточная мифология (индийская, персидская, египетская).
-
1.1. Она есть синтез «идеального» и «реального», данный «реально».
-
1.2. «На Востоке личности еще нет».
-
1.2.1. Поскольку обоготворяется вне-личностный момент личности , т.е. природа.
-
-
-
2. Существует христианское средневековье или реалистическая/средневековая мифология.
-
2.1. Она есть синтез «идеального» и «реального», данный «идеально».
-
2.2. Здесь личность предстает в «абсолютном бытии и абсолютной свободе». 3. Существует античность или «классическая» мифология.
-
-
3.1. Она есть синтез «идеального» и «реального», данный как таковой.
-
3.2. Ее основное свойство – тотальный синтез с телом, ввиду чего «личность не может быть вполне свободной». Все эти три ипостаси мифа, вытекающие из «второй мифологии», Лосев именует «авторитарными мифологиями», совершенно противоположными мифологии первой: «Абсолютную мифологию поэтому лучше не называть авторитарной. Авторитаризм – там, где есть возможность подчинения и неподчинения, т.е. там, где абсолютная истина не дана вся целиком, а только как бы издали управляет всем бытием» [8, с. 571]. Авторитарные мифологии мыслят бытие в категориях абсолютного и относительного [8, с. 571]. Восточная мифология в понимании объективной личности опирается на «вещественность», античная мифология – на «органически телесную жизненность», а христианская – на «специфически личностные основы» [8, с. 573]. Согласно Лосеву, авторитарная мифология авторитарна в силу ее аксиоматического интереса к «абсолютному объективному бытию» [8, с. 573] и, следовательно, в требуемой таким бытием покорности перед объективно-онтологическими ценностями. Вершинами такой мифологии в истории выступают иудаизм, православие и латинство (католицизм) – философия этих религий подразумевает служение абсолютно могущественному Богу.
Но есть еще два типа мифологий, вытекающих, наряду с мифологией авторитарной, из второй области, переживающей гипостазирование абсолютной мифологии, а именно либеральная и социалистическая мифологии. В либеральной мифологии центр тяжести перенесен с абсолютных ценностей в частный субъект, который провозглашает индивидуальную автономию, свободу от абсолютных ценностей [8, с. 573]. Более того, Лосев специально использует термин «изоляция», желая подчеркнуть абсолютную свободу субъекта от объекта, как они рассматриваются пред-
Общество
Общество. Среда. Развитие № 4’2024
ставителями либеральной мифологии . Субъект в такой мифологии «обожествлён». Объективно-личностное (авторитарное) и субъективно-личностное (либеральное) пока разведены друг с другом – вторая мифология является инобытием первой, реакцией «интеллигенции» (чистого мышления) на абсолютную власть авторитарных мифологий.
Если либеральная мифология всего лишь реагирует , т.е. отрицает , то социалистическая мифология реагирует на реакцию, отрицает отрицаемое. Лосев, следуя здесь, по собственному признанию, диалектической структуре Гегеля, замечает, что отрицание отрицания есть утверждение [8, с. 574]. Отпавший от авторитарного абсолюта либеральный субъект снимается в абсолютизации посюсторонней жизни – общественной, материалистической и социалистической. Идея общества противопоставляет себя субъекту интеллигенции и вместе с этим предлагает объективный абсолют социума – взамен объективному абсолюту божественного авторитета. Вслед за этим, Лосев категорически замечает: «Мы получили категорию социализма. Что же дальше? Дальше , собственно говоря, всё уже исчерпано . Трансцедентные ценности были и сыграли свою роль. Инобытийные ценности были и сыграли свою роль. Бог, природа, человек, общество – всё это уже было и дало свои исторические и мифологические плоды. Что же дальше? Дальше нет ровно никаких категорий, которые бы ранее того не существовали в истории . Недаром социалисты обходят молчанием вопрос о том, что же будет за социализмом. Действительно, ответить на это невозможно» [8, с. 575]. Материалистический социализм постоянно становится , являясь завершающей стадией гипостазирования мифа.
С тезисом Лосева перекликается тезис автора «Манифеста этнософии» В. Арсеньева: он утверждает, что прежде всего этнософия возрастает в «архаическом субстрате современного общества» и, более того, она «императивно преодолевает» мистификацию «материального» [2, с. 42]. На наш взгляд, Арсеньев недостаточно проясняет вопрос о том, как именно этнософия преодолевает материалистический миф, хотя уже симптоматично указание на императивный характер этой мировоззренческой операции. Этнософия призвана помочь именно обществу преодолеть концептуальный кризис, заключающийся в потере картин мира [1, с. 116]. Более мощный в ценностном отношении этнософский запал Н. Шодоева вовсе предлагает при- мирить материализм и идеализм, указывая, что их противоречия лежат не в них самих, но в природе человеческого сознания, где происходит борьба «духов добра и зла» [15, с. 174]. Эта борьба вызвана «гордыней», и Шодоев предлагает устранить ее посредством благодушного принятия «пяти богов России», включая сюда Иисуса Христа, Будду и Аллаха – все они, согласно его мысли, «сходятся на современном Эл Алтае» [15, с. 171] ради процветания всех народов (полностью антинаучные «разыскания» Шодоева, возводящего по происхождению имена всех «богов» к «тюркскому языку», мы оставляем за скобками). Эти замыслы Арсеньева и Шодоева указывают на тот самый императив: возвращение к абсолютной мифологии, на которую указывает Лосев – в том отношении,что этнософские «системы» являются лишь методом достижения идеала, а не самим идеалом – они гуманистичны и педагогичны [5, с. 32–33], и это при том, что компонент национальной мифологии активно сопротивляется монотеистической религиозности [6, с. 74]. Но к какому типу можно отнести этнософию на Алтае?
Фундаментальные компоненты алтайской этнософии хорошо исследованы. Опуская незначительные разногласия, следует указать основные:
-
1. Архаизация . На этот компонент особенно указывает А.В. Малинов. Мотивации представителей алтайской этнософии направлены в будущее за счет усвоения прошлого, включая сюда народное ремесленничество, национальную музыку и пр. Эта архаизация сопряжена с самосохранением «алтайской нации», конструирующей свою идентичность через поиск родственных связей с народами древнего Алтая. Показательно, что вопрос о религиозной идентичности здесь максимально либерален.
-
2. Общественность. Ключевое понятие здесь – айлаткыш, т.е. «форма общественного сознания» [17, с. 129]. Иными словами, алтайская этнософия по преимуществу открыта для «новых пользователей» и не представляет собой эзотерическое или сектантское образование.
-
3. Тотальная одухотворенность мироздания . Этот компонент буквально диктует «двойную общественность», т.е. человеческий индивид обязательно контактирует с духами так же, как и с людьми. Этот компонент многократно подчеркивается Лосевым через категорию «чуда». Для алтайца, рисуемого этнософами, духи управляют всем во Вселенной, от земных государств до небесных объектов.
-
4. Алтай – центр . Несмотря на просветительский пафос отдельных этнософов, на материале исследований мы не видим, чтобы формы алтайской этнософии предложили хоть какие-нибудь оригинальные интеллектуальные программы, выходящие за пределы Алтая. Алтай объявляется центром мира – и в этой логике нет необходимости ни в экспансии, ни в серьезной интеллектуальной рефлексии (например, в университете). В процессах исследования складывается отчетливый вывод: если Алтай – центр мира,то проживающие на Алтае уже «всё имеют для счастья».
Итак, к какому типу мифологии в классификации Лосева мы можем отнести этнософию на Алтае, учитывая представленные компоненты? Нетрудно заметить, что эти компоненты, кроме одного, могут быть присущи всем конкретно-историческим мифологиям. В самом деле – архаизация, некая общественность или общность, а также одухотворенность мироздания присущи огромному множеству мифологий. И только четвертый компонент централизует этнософские мотивации на Алтае вокруг Алтая. В лексике Лосева это явление следует именовать «специ-фикумом» этнософского мифа на Алтае. Спецификум – это ядро конкретной мифологии, выражающееся в «фактах» мифа: «И все миллионы фактов, относящихся к данному типу, несут на себе этот категориальный спецификум. В противном случае нет ни данного общего типа мифологии, ни фактов, на которых этот тип осуществляется» [8, с. 580]. Примечательно, что основной категорией мифа, без которой немыслима, согласно Лосеву, ни одна мифология, выступает категория «чуда». Чудо есть в каждом мифе, поскольку присутствует в его абсолютной идее [8, с. 582]. Если только подражать Лосеву в его диалектическом ходе мысли, то следует предполагать, что этнософия Алтая, концентрируясь на идее Алтая как своем спецификуме, подразумевает некоторое «чудо Алтая» или «чудесность Алтая», в котором он является «центром мира», что прямо или имплицитно демонстрируется в разных исследованиях [9–13; 14, с. 3].
Работа с этнософией Алтая затруднительна, поскольку мифологическое сознание в пределах Горного Алтая специфицируется многими способами, включая восстановление народного промысла или интеллектуальные спекуляции об особой «алтайской этнософии». В силу этого и необходимо обнаружить спецификум этой этнософии. Представляется, что с большей степенью достоверности следует вести речь именно о «чуде Алтая», поскольку алтайская мифология не выходит за пределы региона алтайской культуры; не систематизируется (что необходимо для становления собственно интернационального учения или движения); четко закрепляется во всех доступных исследователю формах на географии Алтая.
Подводя итог нашему исследованию, следует указать: по-видимому, этнософия Алтая прямо не подпадает ни под один тип, описанный Лосевым. Мы обнаруживаем здесь главное сходство с так называемым иудаистическим мифом, для которого центральное место имеет идея Израиля – географически-метафизической области, без которой немыслима судьба человечества. По крайней мере для Шодоева Алтай действительно является «местом отталкивания и приталкивания всего сущего». Тематизированный авторитарный миф здесь с трудом находит достаточные ассоциации – алтайская этнософия не презентует строгих характеристик восточной, христианской или античной мифологий. Из триады ( авторитарная, либеральная, социалистическая) мифологий так же не удается с достаточной ясностью вычленить свойства, без которых алтайская этнософия была бы немыслима – в частности, отсутствуют идея абсолютного бытия или абсолютной личности (авторитарная); идея абсолютного субъекта (либеральная) и идея тотальной материализации абсолюта. Алтайская этнософия представляет собой фундаментально региональный локус мифа. Наибольшую близость, всё же, она имеет к социалистическому типу мифологии, поскольку ставит задачей обеспечить процветание Алтая в духовном и экономическом аспектах, а также способствовать «мирному сосуществованию человеческих обществ» [15, с. 174].
Список литературы Возможный тип алтайской этнософии
- Арсеньев В.Р. Базовые понятия этнософии: подступы к формированию мировоззренческой альтернативы // Общество. Среда. Развитие. - 2008, № 1. - С. 100-116.
- Арсеньев В.Р. Манифест этнософии // Общество. Среда. Развитие. - 2006, № 1. - С. 36-44.
- Бочаров А.Б., Володин А.В. «Диалектика мифа» А.Ф. Лосева как теоретическая база в подходе к этнософии // Международный журнал исследований культуры. - 2023, № 1 (50). - С. 19-32.
- Володин А.В. Концептуальная рамка философии и мифологии: проблема и ситуация алтайской эт-нософии // Вече. - 2022, № 34. - С. 235-244.
- Володин А.В. «Основы алтайской философии» Николая Шодоева: точка зрения этнософии // Общество. Среда. Развитие. - 2023, № 3 (68). - С. 29-33.
- Волкова Е.А. Развитие литературного творчества на Алтае во второй половине XIX - начале XX вв. // Судьбы национальных культур в условиях глобализации: между традицией и новой реальностью: сборник материалов V Международной научной конференции / Под ред. Р.А. Бадикова). - Челябинск: Издательство Челябинского государственного университета, 2022. - С. 71-75.
- Волкова Е.А. Современная отечественная историография этнософии // Гуманитарный акцент. -2022, № 3. - С. 82-88.
- Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа» (новое академическое издание, исправленное и дополненное) / Сост., подгот. текста, вступ. ст. А.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкого, ком-мент. В.П. Троицкого. - М.: Издательский дом ЯСК, 2021. - 696 с.
- Малинов А.В. Картина мира алтайской этнософии // Международный журнал исследований культуры. - 2023, № 1 (50). - С. 33-55.
- Малинов А.В. На пути к этнософии // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. - 2013, № 4 (184). - С. 155-162.
- Малинов А.В. Современная «Алтайская хронология». Этнософские заметки (Modern Altaic Chronologie. Etnosophy notes) // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и естественные науки. - 2013, № 3 (179). - C. 99-106.
- Малинов А.В. Экология культуры алтайской этнософии // Studia Culturae. - 2014, № 22. - С. 107-115.
- Малинов А.В. Этнософия, или археософия, Алтая // Studia Culturae. - 2013, № 18. - С. 121-136.
- Михалев М.С. Особенности мировоззрения современных алтайцев. Опыт анализа автохтонных концепций // Гуманитарные науки в Сибири. Т. 25. - Новосибирск, 2018, № 2. - С. 77-81.
- Шодоев Н.А. Основы алтайской философии. - Бийск: Типография ИП «Кудрин Е.И.», 2009. - 205 с.
- Шодоев Н.А., Курчаков Р.С. Алтайский билик - древние корни народной мудрости России. - Казань: Центр инновационных технологий, 2003. - 107 с.
- Янутш О.А. Персонализация историко-культурного опыта как базовый механизм конструирования национальной идентичности (на примере Республики Алтай) // Общество. Среда. Развитие. - 2023, № 3 (68). - С. 123-129.