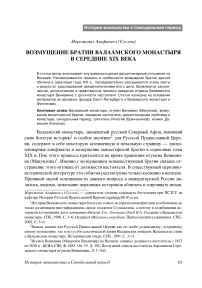Возмущение братии Валаамского монастыря в середине XIX века
Автор: Суслов Агафангел
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История монашества в синодальный период
Статья в выпуске: 4 (57), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье автор анализирует внутримонастырские дисциплинарные отношения на Валааме. Рассматриваются причины и особенности возмущения братии данной обители в сороковые годы XIX в., последовательно раскрываются этапы смуты и результат расследования священноначалием этого дела. Выявляются канонические, догматические и нравственные причины смещения игумена Валаамского монастыря Вениамина с должности настоятеля. Статья написана на основании материалов из архивных фондов Санкт-Петербурга и Валаамского монастыря в Финляндии.
Валаамский монастырь, игумен вениамин (мануилов), возмущение монастырской братии, смещение настоятеля, дисциплинарные проблемы в монастыре, синодальный период, святитель игнатий (брянчанинов), игумен дамаскин (кононов)
Короткий адрес: https://sciup.org/140190041
IDR: 140190041
Текст научной статьи Возмущение братии Валаамского монастыря в середине XIX века
ние негативные факты монастырской жизни, происходившие вблизи от северной столицы империи. В советские годы историки по известным, идеологическим причинам практически совсем не исследовали церковные вопросы. В настоящее время имеются в наличии необходимые источники для беспристрастного освещения данной проблемы4 . Разумеется, изучаемые события имеют положительный интерес: уточнение фактов, что позволит выявить истинные причины нестроений в монастыре, снять обвинения с некоторых лиц, и оценить роль этого прецедента (смуты) для последующего развития Валаамского монастыря. Кроме того, работа позволяет обозначить малоисследованную деятельность архимандрита Игнатия (Брянчанинова), как благочинного монастырей Санкт-Петербургской епархии, а также понять его последующие распоряжения и действия, касающиеся Валаамского монастыря.
Одной из причин возмущения братии, произошедшего в сороковых годах XIX в., было желание восстановить на Валааме древние иноческие уставы Саровской пустыни. Попытка, на первый взгляд, похвальная и положительная, однако на практике, как оказалось, неудачная и даже предосудительная. Древний, строгий устав обители возвращен не был, а братия нарушила иноческие обеты послушания и на долгое время лишила монастырь мирного устроения и молитвенного, спокойного состояния. При дальнейшем рассмотрении, однако, становится еще более очевидно, что факты и события, сопутствующие возмущению, в той или иной степени, обусловили последующее развитие и процветание обители, наступившее во второй половине XIX в.5.
Таким образом, как смута, так и умиротворение братии имеют большое значение для оценки духовного состояния Валаамского монастыря в первой половине XIX в., а также для понимания его последующего возрастания. Особое влияние эта смута и проблемы, связанные с ней, оказали на развитие духовной близости между архимандритом Игнатием (Брянчаниновым) и будущим настоятелем Валаамского монастыря игуменом Дамаскиным (Кононовым) в последующий период. Источниковой базой для исследования смуты и причин ее возникновения являются документы синодальных дел из фондов 796 и 797 в РГИА6, описания Валаамского монастыря, составленные архимандритом Игнатием (Брянчаниновым)7, а также сведения, изложенные во взаимной переписке благочинного архимандрита Игнатия и игумена Дамаскина8.
Следует несколько слов сказать об историческом контексте, т.е. о ситуации в Валаамском монастыре в конце XVIII и начале XIX вв. Для Валаама это был период возрождения обители после бедствий, связанных с нападением шведов на северные российские границы9 . Возобновление монастыря на острове связано, прежде всего, с именами митрополита Гавриила (Петрова)10 и игумена Назария (Кондратьева)11. Последний, с благословения священноначалия, принес на Валаам в 1782 г. строгий общежительный устав Саровской пустыни12.
В последующие годы игумены монастыря сменялись13, и отношение к данному уставу становилось неоднозначным. Новые поправки и изменения в монастырском уставе, которые составлялись с благой целью «исправить замеченные недостатки», критиковала и отвергала Валаамская братия. Недовольство монахов выражалось во взаимных подозрениях, жалобах и доносах, что вызывало соответствующую реакцию священноначалия: «с 1817 года ездит на Валаам синодство» 14 со следствиями и проверками монастыря. Сложные отношения между братией и новыми настоятелями подчас только усугублялись данной ранее императорской властью привилегией — избирать игумена из среды своей монастырской братии15. Очевидно, что бывший рядовой инок не всегда охотно и адекватно воспринимался всем братством в качестве абсолютного начальника над остальными.
Определенные сведения об истоках смуты в среде валаамских иноков дает розыск священноначалием и светской властью в обители сомнительных, без должных документов, лиц. Это расследование проводилось за 10 лет до возникновения смуты и отчасти характеризует людей, находившихся в монастыре. В числе «сомнительных личностей» оказались не только наемные рабочие, труд-ники и послушники, но также монахи и иеродиаконы Валаамского монастыря16, часть из которых оказалась несостоятельными должниками (укрывались от платежа долга), остальные скрывались в монастыре от череды рекрутской повинности. Большинство выявленных сомнительных лиц было тогда же удалено из обители или предано суду светской власти17. Особо тщательное расследование проводилось о лицах, принявши х постриг и рукоположенных в священный сан18.
Люди, оказавшиеся в монастыре по лукавым причинам, без искренних монашеских стремлений, были инородными иноческому братству. Зачастую, они способствовали возникновению напряженных отношений между игуменом и братией обители, которые, таким образом, составляли удобную почву для возникающих конфликтов.
Еще одной опасной группой на Валааме были иноки–ревнители сугубого благочестия. Большинство из них не имели ни духовного, ни светского обра-зования19. Обрядам и букве монастырского устава ревнители традиций придавали значение догмата. Любые изменения в уставе обители, в богослужении, в назначении послушаний, в распорядке келейной жизни они воспринимали как отступление от основ православного монашества, как апостасию. Считая себя обязанными защищать истины веры, они сообщали священноначалию и светским руководящим лицам (правящему архиерею, Духовной консистории, обер-прокурору) о происходящих изменениях в обители. Различные проступки братии они представляли как повод сомневаться в православии настоятеля, кричали о порочной жизни игумена, наместника и другого монастырского началь-ства20. Эта группа «защитников древнего благочестия» была опасна своей чрезвычайной активностью, безаппеляционностью и несомненным сознанием своей правоты. Естественно заметить, что возмущение и сомнения, рассеиваемые этими лицами, быстро распространялись в среде остальной братии, а также достигали ушей трудников и паломников обители, заставляя и их колебаться в доверии к монастырскому начальству.
Третьей, не менее агрессивной и опасной группой лиц на Валааме были ссыльные арестанты, т.е. лица, находившиеся под епитимьей (подначальные). Валаамский монастырь в XIX веке стал использоваться не только как место уединенной, созерцательной молитвы и сугубой аскезы, но в качестве места ссылки и вынужденного здесь заключения. Сюда для принудительного исправления направляли лиц, лишенных сана, совершивших канонические или другие (не уголовные) преступления против Церкви или общества. Архимандрит Игнатий (Брянчанинов), будучи благочинным монастырей Санкт-Петербургской епархии, описывал опасное влияние этих ссыльных лиц на Валаамскую бра-тию21 . Спустя некоторое время он однозначно потребует вывода подначальных с Валаама как необходимую меру для нормализации духовных и административных отношений в монастыре22. Игумен Дамаскин (Кононов) впоследствии также большую часть времени своего настоятельства проведет в борьбе с практикой использования Валаамского монастыря как места заключения и ссылки епитимийцев23.
При такой обстановке в монастыре назначение нового настоятеля, игумена Вениамина (Мануилова)24, было по-разному воспринято валаамскими иноками. Одни увидели в этом явное нарушение Высочайше данного им Саровского устава, который предписывал избрание игумена из среды своего братства. Другие отнеслись к назначению с пониманием. Возникшие несогласия в среде монашествующей братии остальных иноков подвигли на размышления — какой стороны должно держаться.
Непосредственным поводом к постановке вопроса в Синоде о несоответствии игумена Вениамина и должности строителя Валаамского монастыря послужил донос в Духовную Консисторию заштатного игумена Варлаама (Давыдо-ва)25, содержащий в себе множество обвинений. В письме о. Варлаам на восьми листах излагает все проступки и преступления правящего игумена Вениамина, а также, какие он, Варлаам, предпринимал действия и обличения к вразумлению настоятеля. Далее доноситель сообщает, что обличения его не оказали нужного воздействия на игумена Вениамина, и он по-прежнему пребывает без исправле-ния26. К факту возбуждения следственного дела также причастны доносы монаха Иосии27 и иеромонаха Иезекииля28. Обобщая множество свидетельств и фактов нарушения монастырской жизни священноначалием обители из этих доносов, обвинения можно сформулировать в трех параграфах:
-
— отклонение от содержания истин Православной веры монастырским начальством, возникновение масонской ереси в Валаамском монастыре (игумен покрывает еретиков из братии, значит и сам еретик) 29;
-
— различные и множественные обвинения в безнравственной и порочной жизни (блуд, воровство, гордость, оскорбления и уничижение братии и т.д.);
-
— канонические обвинения (игумен презирает и меняет устав Валаамского монастыря, осуществляет кардинальные изменения в богослужении, сам игумен не избран из числа братии монастыря)30.
Перед лицом таких неоднократных и постоянных свидетельств священноначалие в столице необходимо должно было организовать очередное расследование и назначить комиссию для выявления изложенных в доносах нарушений в Валаамском монастыре. В следственную комиссию вошли: архимандрит Игнатий (Брянчанинов) и игумен Серафим (Козлов)31, которые по предложению обер-прокурора Синода Н.А. Протасова были командированы Святейшим Синодом в Валаамский монастырь 31 января 1838 г.32
Рассмотрение обвинений вероучительного характера. В ходе следствия комиссией было установлено, что первую информацию о возникшей ереси игумен Вениамин получил 4 декабря 1836 г.33, когда монах-пустынник Амфило-хий (Брелихов)34, придя к нему, объявил, что, по сообщению рясофорного монаха Иакова, монах Порфирий развивает учение противное Православной Апостольской Церкви. На другой день сам монах Иаков подтвердил игумену все, что прежде было сказано монахом Амфилохием настоятелю. Игумен Вениамин, придя к указанному монаху Порфирию, при обыске изъял у него книгу госпожи Гийон35, содержащую различные мистические опыты этой женщины, а также тетради его собственного, т.е. монаха Порфирия, сочинения, для рассмотрения их содержимого36.
При последующем расследовании никто из монахов, утверждавших возникновение ереси в монастыре, не смог внятно сформулировать, в чем состояла ересь, а в тетрадях монаха Порфирия не содержалось ничего еретического, кроме обидных нападок на формально исполняющих христианские обряды и таинства, потому комиссия пришла к соответствующим выводам. Следствие не установило на Валааме фактов возникновения ереси и отступления от догматов Православной Церкви, а также искажения ее вероучительных истин. Архимандрит Игнатий (Брянчанинов) в своем отчете священноначалию объясняет возникшие подозрения у иноков в неправославии некоторых монахов на Валааме исключительно малограмотностью и общей необразованностью братии37. По итогам расследования: монах Порфирий, иеромонах Аполлос и архимандрит Платон38, обвиняемые в содержании неправославного учения, смогли доказать перед комиссией свое православное исповедание, а донос о возникновении «ереси» в Валаамском монастыре основывался лишь на неподтвержденных слухах и личной неприязни иноков39. Другие свидетельства и подозрения в ереси также не подтвердились. В итоге следствие для прекращения и предотвращения подобных фактов «ереси» рекомендовало, впредь: «не принимать на Валаам людей ученых, сомнительных относительно Православия, иеромонаха Аполлоса вывести ‹…› монаха Порфирия за его упорство и безвременное учительство, коим он многих соблазнил, переместить в Старо-Ладожский мо- настырь»40. Также было предложено вытребовать из библиотеки Валаамского монастыря все книги иностранной печати, даже пропущенные цензурой. Братии было запрещено составлять записки собственного сочинения, выдавать Библию новоначальным, разрешая к чтению только Новый Завет и Псалтирь. Архимандрит Платон был оставлен в монастыре без изменения41.
Далее, проводя детализацию обвинений из доноса бывшего игумена Варлаама (Давыдова), обозначенных во втором пункте, т.е. подозрениях в безнравственной жизни игумена и наместника, следует отметить факт, что записка обер-прокурора графа Протасова под №192 от 5 января 1839 г. сообщает в Синод о недостойном поведении руководства Валаамского монастыря42. Из материалов дела становится видно, что первые доносы с Валаама к обер-прокурору на игумена Вениамина поступили гораздо раньше43, но активное расследование по данным свидетельствам не возбуждалось ввиду их местнического характера и неупоминания в них о тяжких преступлениях последнего. Негативная с нравственной стороны характеристика происходящего на Валааме прозвучала также в рапорте митрополита Серафима (Глаголевского) от 20 сентября 1838 г. В документе, ссылаясь на подобный источник (донос монаха Иосии), сообщается, что рассматриваемое событие имело место в 1835 г. и что «общая любовница две недели жила в монастыре, которую наместник Иринарх провожал до Сердоболя, и там прожил три дня, а поступки сии наместника игумен Вениамин прикрывает»44 . В ходе разбирательств комиссии наместнику монастыря иеромонаху Иринарху (Савинову)45 и казначею иеромонаху Ири- нарху удалось оправдаться46 и доказать свою невиновность перед следствием, а к игумену Вениамину подобные обвинения относились еще меньше. Среди подозрений в безнравственной жизни, обращенных к игумену Вениамину в доносе Варлаама существовало также косвенное обвинение в воровстве последнего, т.е. злоупотребление им казенными монастырскими средствами и стяжание личного имущества47. Однако, несмотря на многочисленные обвинения и подозрения в растрате (краже) монастырских денег игуменом Вениамином, а также использования им бриллиантового креста не по назначению, данные преступления следствием не подтвердились. Наоборот, в ходе расследования выявились положительные хозяйственные качества данного руководителя48 . Тем не менее, несмотря на ложность практически всех обвинений, церковная комиссия предлагала вывести из монастыря лиц, подозреваемых в вышеуказанных проступках и нарушениях49. Эта мера, по мнению архимандрита Игнатия (Брянчанинова), была крайне необходима для водворения спокойствия в обители.
Канонические обвинения. Не менее болезненным фактом для Валаамской братии после назначения игумена Вениамина явилось его отношение к существующему Валаамскому уставу, который принесен игуменом Назарием из Саровской пустыни и был благословлен тремя митрополитами, по свиде- тельству игумена Варлаама50: Гавриилом (Петровым), Амвросием (Подобедо-вым)51 и Серафимом (Глаголевским)52. Нарушение существовавшего Валаамского устава состояло уже в самом избрании Вениамина игуменом. Он был назначен священноначалием на место настоятеля Валаамского монастыря не из числа его братства, как это предписывал устав обители, утвержденный импе-ратором53 . Новоназначенный игумен презрительно относился к действующему уставу, позволяя себе уничижительно и оскорбительно называть своих предместников (игуменов Валаамского монастыря)54. Братия обители не менее возмущалась от изменений в соборном богослужении, когда были отменены воскресные всенощные бдения, которые заменены вечерней, полунощницей и воскресной утреней55. Чтение библейских песней на канонах на утрени заменено припевами. Пение канонов на повечерии: Иисусу Сладчайшему, Богородице с икосами и Ангелу Хранителю — было заменено вычиткой. На литургии пение тропарей и кондаков заменено чтением. Валаамское, знаменное пение было также изменено, как пишет игумен Варлаам, на свой вкус56.
Однако, по свидетельству благочинного монастырей Санкт-Петербургской епархии, архимандрита Игнатия (Брянчанинова), возглавлявшего расследование, все вышеизложенные изменения в вечернем и утреннем богослужении являются допустимыми и разрешаются общепринятым церковным уставом, по усмотрению настоятеля57. Благочинный, наоборот, как одну из причин возникшей смуты и возмущения Валаамской братии называет сам устав, который, по его мнению, необходимо отменить или изменить, о чем свт. Игнатий пишет в своем отчете58: «Для успокоения обители необходи- мо вышеупомянутый устав, сей кодекс аристократии и источник смут в Валаамском монастыре, отобрать в архив Консистории, представив руководствоваться уставом великого во святых Саввы, принятым всей Церковью…»59.
Итак, подводя итоги назначенного священноначалием расследования по факту возникновения в Валаамском монастыре «ереси», обвинений в предосудительных поступках игумена Вениамина, наместника Иринарха и других иноков, а также в канонических нарушениях устава и искажении монастырских богослужений, расследовавшая дело комиссия установила ложность и необоснованность большинства обвинений. Данные недоразумения возникли, по мнению следствия, из-за неграмотности и необразованности валаамских монахов, а также по их личной неприязни и вражде. Тем не менее, хотя игумену Вениамину, иеромонаху Иринарху (наместнику) удалось оправдаться от возводимых обвинений, для восстановления мира в обители комиссия рекомендовала священноначалию перевести (удалить) указанных ею лиц из монастыря60. Данная рекомендация Следствия была удовлетворена Святейшим Синодом и 17 декабря 1838 г. утверждена императором Николаем I. Донос о ереси признан недоразумением и подозрением, возбужденным несогласием в братстве61.
Таким образом, как видно из рассмотренных документов и обозначенных фактов, Валаамская смута 40-х гг. XIX в. является одним из наиболее острых, конфликтных периодов для внешней и внутренней духовной жизни в истории этой обители. Возмущение братии, несмотря на установленную ложность большинства обвинений (в т.ч. вероучительных) и невиновность игумена Вениамина, привело в итоге к кардинальным изменениям в руководстве Валаамского монастыря. Действия следственной комиссии, а особенно ее главы, архимандрита Игнатия (Брянчанинова), позволяют выявить его новые малоизвестные качества как опытного администратора и церковного руководителя, как благо- чинного монастырей Санкт-Петербургской епархии. Далее следует отметить, что именно в результате расследования смуты, возникшей из-за так называемой «масонской ереси», архимандрит Игнатий как глава следственной комиссии ре-комендова священноначалию, после перемещения игумена Вениамина62, поставить настоятелем Валаамского монастыря монаха Дамаскина (Кононова)63, а его назначение ознаменовало новый, один из наиболее значимых периодов в истории Валаама. В качестве одного из положительных последствий разрешения смуты также следует отметить те образовательные занятия по церковной истории, катехизису, церковному чтению и пению, которые стали проводиться среди валаамских иноков с этого периода64. Данные занятия начались по благословению архипастыря65, но как бы в ответ на упрек архимандрита Игнатия в безграмотности и неучености валаамских монахов66.
Не следует забывать также и тот факт, что благочинным монастырей Санкт-Петербургской епархии архимандрит Игнатий был назначен в период смуты братии Валаамского монастыря67, для урегулирования которой он был определен начальником следственной комиссии, отправленной на Валаам. Успешность действий главы следственной комиссии в урегулировании данного дисциплинарного конфликта очевидным образом подтверждает правильность этого назначения.
Список литературы Возмущение братии Валаамского монастыря в середине XIX века
- Российский Государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 119. Д. 1082а. 1838 г. Протокол от С. Петербургской Духовной Консистории по делу, начавшемуся в ней по изветам заштатного игумена Варлаама и монаха Иосии, о появившейся якобы в Валаамском монастыре масонской ереси.
- РГИА. Ф. 796. Оп. 119. Д. 1082. 1838 г. По рапорту С. Петербургского митрополита Серафима о беспорядках, допущенных настоятелем Валаамского монастыря Вениамином.
- РГИА. Ф. 797. Оп. 5. Д. 18153. 1835 г. О противозаконных поступках игумена Вениамина.
- РГИА. Ф. 797. Оп. 5. Д. 18170. 1837-1841 г. По доношению игумена Варлаама о беспорядках в Валаамском монастыре и о подсудимых: монахе Порфирии, иеромонахе Аполлосе, архимандрите Платоне, иеромонахе Иринархе, игумене Вениамине, бывшем настоятеле монастыря Варлааме, монахе Иосии, бывшем казначее Иринархе, иеромонахе Арсении и послушнике Филиппе.
- РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 11639. 1828-1833 г. По высочайшему повелению о проживающих в Валаамском монастыре сомнительных людях.
- Центральный Государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 19. Оп. 15. Д. 343. 1813 г. Указ Святейшего Синода «О назначении настоятеля Валаамского монастыря из числа братии обители».
- ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 24. Д. 29. 1832-1840 г. По прошению Коневского монастыря, иеромонаха Иезекииля о разных предосудительных поступках братии Валаамского монастыря.
- ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 38. Д. 16. 1847 г. О назначении священников для чтения Катехизиса и проверке текстов катехизических бесед.
- ЦГИА СПб. Ф. 1883. Оп. 53. Д. 192. Послужной список настоятеля Авраамиева Городецкого монастыря игумена Вениамина.
- Архив Валаамского монастыря в Финляндии (АФВМ). Еа: 7. Д. 47. 1844 г. О порядке и сроке представления ведомостей о степени знания братством сея обители предметов Православного Катехизиса и Священной Истории.
- АФВМ. Еа: 1. Д. 29. 1838 г. Об определении благочинным над сим монастырем и прочими здешней епархии, Сергиевой пустыни Настоятеля Архимандрита Игнатия.
- АФВМ. Еа: 35. Д. 47. 1859-1864 г. О подначальных.
- Богданов А.И., Зеленина Я.Э. Гавриил (Петров), митр.//Православная энциклопедия. Т. X. М., 2005. С. 224-227.
- Валаамский избранник. М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 2007.
- Валаамский монастырь и его подвижники. СПб.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 2011.
- Валаамский патерик. Игумен Дамаскин. СПб., 1996.
- Валаамское слово о Валаамском монастыре. Исторический очерк. СПб., 1991.
- Жизнеописания валаамских старцев: игумен Дамаскин. СПб., 1996.
- Игнатий Брянчанинов, свт. Описание Валаамского монастыря и смут бывших в нем//Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т. III. М., 2002.
- Коняев Н. Апостольский колокол. Повествование о Валаамском монастыре, его древностях и святынях. СПб., 2003.
- Лесков Н.С. Монашеские острова на Ладожском озере. СПб., 1874.
- Немирович-Данченко В.И. Крестьянское царство. Наши монастыри. Валаам. СПб., 2009.
- Онуфрий (Маханов), иеродиак. Причал молитв уединенных. СПб., 2005.
- Охотина-Линд Н.А. Сказание о Валаамском монастыре. СПб. 1996.
- Степашкин В.А. Преподобный Назарий Валаамский подвижник Саровской пустыни. Н. Новгород: Изд. отд. Нижегородской епархии, 2009.
- Цыпин В. прот., Зеленина Я.Э. Амвросий (Подобедов), митр.//Православная энциклопедия. Т. II. М., 2001. С. 149-150.
- Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший период. М., 2004.
- Чистович И.А. История Православной Церкви в Финляндии и Эстляндии. СПб., 1856.