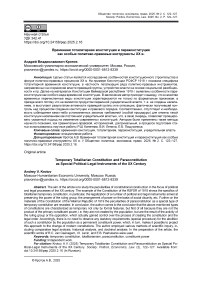Временная тоталитарная конституция и параконституция как особые политико-правовые инструменты XX в
Автор: Кротов А.В.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является исследование особенностей конституционного строительства в фокусе политико-правовых процессов XX в. На примере Конституции РСФСР 1918 г. показана специфика тоталитарной временной конституции, в частности легализация ряда политико-правовых инструментов, направленных на сохранение власти правящей группы; устройство власти на основе социальной разобщенности и пр. Далее на материалах Конституции Веймарской республики 1919 г. выявлены особенности параконституции как особого вида временной конституции. В заключение автор приходит к выводу, что в качестве временных перечисленные виды конституции характеризуются не только по формальным признакам, а прежде всего потому что не являются продуктом первичной учредительной власти, т. е. не созданы населением, а выступают результатом активности правящей группы или оппозиции, фактически получившей контроль над процессом создания конституции и правового порядка. Соответственно, отсутствует и необходимость соблюдения каких-либо установленных законом требований (особой процедуры) для отмены такой конституции населением как постоянной учредительной властью, что, в свою очередь, позволяет проецировать указанный подход на изменение современных конституций. Автором были применены такие методы научного познания, как сравнительно-правовой, исторический, доктринальный, в процессе подготовки статьи использовались научные работы Р.Ш. Канегема, В.И. Ленина, Е.Б. Пашуканиса.
Временная конституция, тоталитаризм, параконституция, учредительная власть
Короткий адрес: https://sciup.org/149147422
IDR: 149147422 | УДК: 342.41 | DOI: 10.24158/pep.2025.2.16
Текст научной статьи Временная тоталитарная конституция и параконституция как особые политико-правовые инструменты XX в
Московский гуманитарно-экономический университет, Москва, Россия, ,
Moscow Humanitarian Economic University, Moscow, Russia, ,
За многовековую историю развития права конституции были классифицированы по различным признакам: юридические и фактические, гибкие и жесткие, консолидированные и неконсолидированные и т. д. Систематизированы конституции были и по такому признаку, как временные и постоянные. Исследование временных конституций, анализ их влияния на политико-правовую сферу представляет не только научный, но практический интерес, что обусловлено прежде всего процессом исторической цикличности в контексте конкуренции различных режимов правления, особенно ярко, по нашему мнению, проявившихся в ХХ в.
Традиционно в научной литературе отмечаются следующие особенности постоянных и временных конституций: постоянная конституция подразумевает нелимитированный период действия, в свою очередь, временная – рассчитана на действие в течение определенного периода. Выделяются следующие признаки временных конституций: часто провозглашаются президентами, военными, революционными советами; рассчитаны на короткий период; как правило, не вносят существенные изменения в политико-правовую матрицу государства; разрабатываются и применяются в упрощенном порядке; могут иметь совершенно разнообразные цели, в числе которых государственное строительство, продвижение социальной справедливости или, напротив, установление тоталитарного правления, расширение полномочий властной группы, удаление оппозиционных политических институтов; часто являются результатом генезиса конфликтной или постконфликтной ситуации; многие из них служат прообразом постоянной конституции, которая по политическим, социальным или правовым причинам не может быть принята на момент создания временной конституции.
Как правило, принятие временных конституций связано с политическими потрясениями. Напомним процесс конституционного строительства во Франции. С 1789 г. страна пережила череду смен режимов, при каждом из которых создавалась своя конституция: королевская, императорская и республиканская. Сами французы в шутливой форме так комментируют процесс смены конституций: «мы, французы, настолько умны, что как только у нас появляется новая конституция, мы уже придумываем что-то получше» (Caenegem, 2009).
Исследуя особенности временных конституций, важно также отметить, что не всегда она позиционируется в качестве таковой в своей институциональной форме. Трансформация постоянной конституции во временную (через создание параконституции, о чем речь идет далее) также возможна, как и временной – в постоянную, например как это произошло с Конституцией ФРГ.
Как выделяемый нами первый вид конституции – временную тоталитарную конституцию – мы предлагаем подвергнуть исследованию Конституцию РСФСР 1918 г. Она создавалась в результате линейного процесса в течение трех месяцев, участие гражданского общества в нем было минимальным, дебаты относительно содержания документа свелись, по сути, к политическому противостоянию между В.И. Сталиным и рядом членов Комиссии ВЦИК по его разработке. В итоге проект В.И. Сталина был принят Комиссией ВЦИК пятью голосами против трех, после чего Конституция была утверждена в 1918 г. Пятым всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов (часть делегатов съезда была арестована еще до ее принятия и в голосовании, соответственно, не участвовала).
Отсутствие необходимости фактического обеспечения участия общественности в процессе разработки Конституции РСФСР 1918 г. связано с введением большевиками диктатуры, как писал В.И. Ленин (1969: 245–246): «Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами. <…> Пролетарская революция невозможна без насильственного разрушения буржуазной государственной машины и замены ее новою…». В условиях насилия, поощряемого властью, легитимность властных решений, соответствие их воле населения, его потребностям является ненужным атрибутом, лишь затормаживающим реализацию провластных политических решений.
-
Е .Б. Пашуканис1, характеризуя Конституцию РСФСР 1918 г., указывал, что она рассчитана на переходный период от буржуазного строя к социалистическому (ст. 9 Конституции РСФСР 1918 г.), хотя сама Конституция и не была официально институционализирована в качестве временной (с указанием срока действия).
-
В .И. Ленин, отмечая особенности Конституции РСФСР 1918 г., писал: «Мы должны знать и помнить, что вся юридическая и фактическая конституция Советской республики (1918 г.) строится на том, что партия все исправляет, назначает и строит по одному принципу…» (1981: 403); «Советская конституция не писалась по какому-нибудь “плану”, не составлялась в кабинетах, не навязывалась трудящимся юристами из буржуазии. Нет, эта Конституция вырастала из хода развития классовой борьбы, по мере созревания классовых противоречий» (1969: 312)». Таким образом,
«Конституция, или основной закон, отражает интересы того класса, который господствует или стоит у власти…»1.
В Конституции РСФСР 1918 г. был реализован принцип divide et impera. Правящая элита не просто властвовала, она властвовала с помощью культивации социального раздора, строя свое господство на разобщении различных социальных групп. В группе управляемых были выделены две крупные группы (в свою очередь, не однородные по составу): официально провластная и оппозиционная. Конституционные права и свободы оппозиционной группы в такой системе, как правило, зависят исключительно от воли правительства. Например, в соответствии со ст. 23 Конституции РСФСР 1918 г., руководствуясь интересами рабочего класса в целом, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика лишала отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции.
Созданная в результате развития конфликтной ситуации, насильственного радикального изменения социально-политического строя, Конституция РСФСР 1918 г. не только привела к установлению тоталитаризма (в связи с этим мы ее относим к особому виду конституции – временной тоталитарной конституции), но и легализовала ряд политико-правовых инструментов, направленных на сохранение власти правящей группы. Например, в соответствии с п. «ж» ст. 3 Конституции, была образована Социалистическая Красная армия рабочих и крестьян и осуществлялось полное разоружение имущественных классов; согласно ст. 7, органы власти формировались по классовому принципу; согласно ст. 1, Россия объявлялась Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежала этим Советам.
Устройство власти на основе социальной разобщенности, диктата ценностей властной группы привело к отторжению классом управляемых (а такой класс всегда, согласно теории Г. Моски (2016), более многочислен) положений конституции в качестве особого политико-правового документа, не столько легализующего (для этого в условиях тоталитарного режима достаточно было простого позитивного закона), сколько в первую очередь легитимизирующего решения властной элиты, документа, связывающего население и власть. Конституция, не отражающая реальные принципы социальной гармонии в государстве, искусственно обеспечивающая интересы правящей элиты, была призвана усыпить внимание нации, сделать народ «податливым» для манипулирования со стороны властной группы.
Как показала дальнейшая практика конституционного строительства в РСФСР, отсутствие фактического доверия к конституции со стороны населения свело к минимуму ее потенциал, нивелировала авторитет и влияние на законодательство, увеличило разрыв между конституционными положениями и нормами законов. Конституционный баланс как юридически узаконенный баланс интересов всех социальных групп общества сформулирован в Конституции РСФСР 1918 г. не был2. Она не стала инициатором нового начала, не запустила процессы преобразования в обществе, праве, а явилась лишь фасадом, за которым скрывалась диктатура.
В дальнейшем Конституция РСФСР 1918 г. предоставила правящей группе «мандат правления», одновременно сведя к минимуму процессы солидаризации населения на базе основного документа, а также фактически нивелировав ограничительную функцию конституции по отношению к полномочиям властной группы. Например, в сборнике «В интересах рабочих и крестьян» 1921 г. (Декрет о свободном обмене, Положение об обмене и пр.) отмечается, что «советская власть есть рабоче-крестьянская власть. Две задачи она ставит перед собою: это забота об интересах рабочих и об интересах крестьян»3, что коррелирует с содержанием гл. 5 Конституции РСФСР 1918 г.
Конституцию РСФСР 1918 г. возможно характеризовать в качестве временной не только по причине того, что она была рассчитана на переходный период от буржуазного строя к социалистическому, просуществовав до 1925 г., но и в связи с тем, что она не была конституцией в ее непозитивистском понимании, а именно в качестве особой юридической формы конституирования (определения содержания) первичной учредительной властью (населением) основных правовых, культурных, экономических, религиозных и политических начал сложившегося в государстве и обществе социального порядка во всем многообразии его аспектов, устроенных на базе солидаризации интересов различных социальных групп с учетом доминантов современной цивилизации, права. Фиктивность (фантомность) временной тоталитарной конституции связана еще и с тем, что ее положения не являются конституцией в смысле их непосредственного влияния на содержание законодательства и практику его применения, не формируют национальный правопорядок, а представляют собой в больше степени политические лозунги и крайне далеки от реальной жизни (в том числе в отношении властной группы).
В.И. Ленин, а в дальнейшем и И.В. Сталин, понимая фантомность конституций как СССР, так и РСФСР, не пытались создать из них нечто подобное конституции в США, которая рассматривается населением в качестве, как метко пишет Р.Ш. Канегем (Caenegem, 2009), религиозного откровения. В США конституция является основой, связывающей население, одним из элементов, «цементирующих» нацию, священной книгой, выступающей объектом глубокого почитания, оригинальный текст которой выставлен в Национальном архиве в Вашингтоне на алтаре. П. Майер называл текст американской конституции «американским писанием» (Caenegem, 2009), а С. Вуд говорил о мирских политических убеждениях, превращенных в священные религиозные убеждения, и о светских и временных документах, превращенных в священные писания.
Особая идеологическая роль конституции в РСФСР/СССР была заменена идеологией ленинского марксизма, в дальнейшем переработанной В.И. Сталиным, которая и стала новой религией для населения огромного государства.
В перечисленных процессах ярко прослеживается идея о том, что конституция занимает особое место в обществе не по приказу правительства и не в силу содержания позитивной нормы. Ее исключительная значимость базируется на глубинной связи с населением и особыми функциями в государстве, прежде всего ограничительными в отношении правительства.
Вторым видом конституции является параконституция, образованная из постоянной конституции, принятой населением как учредительной властью, и в дальнейшем модифицированная в результате решений, принятых в интересах правящей группы. Речь идет о положениях конституции, не соответствующих интересам правящей элиты, в следствии чего они постепенно переходят в разряд юридической фикции как результат действий политической группы, обладающей соответствующими полномочиями. Например, так произошло с Конституцией Веймарской республики, положения которой уже в первые годы правления А. Гитлера имели силу лишь формально, а реально действовало параллельное национал-социалистическое законодательство.
Конституция Веймарской республики была принята депутатами Национального собрания в окончательной форме 31 июля 1919 г. 262 депутата проголосовали за, 75 – против, 84 – отсутствовало. Избраны депутаты были с использованием пропорциональной избирательной системы, голосовать на выборах депутатов имели право все граждане Германии, достигшие возраста 20 лет. Конституция вступила в силу 14 августа 1919 г.
Приход к власти в Германии национал-социалистов и основание нацисткой Германии требовали правового обоснования, что, в свою очередь, предполагало и необходимость изменения положений Конституции Веймарской республики. Декретом президента Германской Республики о защите народа и государства от 28 февраля 1933 г. в целях противодействия коммунистическим актам насилия, представляющим угрозу для государства, были отменены ст. 114, 115, 117, 118, 123, 124 и 153 Конституции впредь до дальнейших распоряжений. Депутаты коммунистической партии Германии были лишены мандатов, что упростило фактическое изменение текста через принятие ряда документов, имеющих конституционное значение. Возникла так называемая параконституция, в которой конституционные нормы были изменены в соответствии с политической волей правительства и формирование которой оправдывалось членами властной группы иллюзорной поддержкой управляемых.
В условиях развития параконституции действующая постоянная конституция приобретает черты временной (хотя официально такого статуса может и не иметь). Далее при усилении дистанцирования фактической реальности от конституционных положений, расширении границ диктата властной группы процесс замены конституционных норм приобретает тривиальный характер. В дальнейшем, с утратой власти управляющей группой, положения параконституции подлежат отмене (полностью или частично), из чего, в частности, и следует вывод о классификации ее в качестве временной.
Официально веймарская Конституция была отменена в 1949 г., часть из ее положений были инкорпорированы в текст действующей Конституции ФРГ. Массовые поправки к Конституции, принятые во времена нацисткой Германии, утратили силу согласно Закону № 1 об отмене нацистских законов от 20 сентября 1945 г.1
Таким образом, предлагаем выделять следующие виды временных конституций: временная тоталитарная конституция и временная параконституция. Указанные виды конституции возникли отнюдь не в результате хаотичных действий. Это плод долгой и кропотливой работы, они исключительно рациональны и, соответственно, намного более опасны (Beckman, 2018).
В дополнение к ранее изложенным доводам добавим, что перечисленные виды конституции определяются в качестве временных не столько по формальным признакам (например, указание на их временный характер в самом тексте конституции или короткий срок их правовой жизни), а прежде всего по причине того, что они не являются продуктом первичной учредительной власти, т. е. не созданы населением (имеется в виду всем населением, а не его отдельными группами), а выступают результатом активности правящей группы или оппозиции, фактически получившей контроль над процессом создания конституции и правового порядка. Соответственно, в условиях усиления первичной учредительной власти (населения) они подлежат отмене.
Положения исходного текста конституции неконституционны при условии, что конституция не является продуктом первичной учредительной власти (народа). Данное утверждение мы можем распространить и на поправки к тексту конституции (например, в случае параконституции).
При оценке конституции на фантомность важно не только соблюдение процедурного вопроса при принятии новой конституции или поправок к действующей. Более значимо сущностное выражение новой конституции либо поправок к конституции, т. е. на самом ли деле решение принимал народ, не было ли манипуляций, смогли ли люди выразить свое осознанное мнение, соблюдены ли требования совещательного процесса, что, в свою очередь, служит гарантией рациональности принятых решений.
Огромное негативное влияние указанных видов конституции связано также с тем, что они не создают закон, национальный правовой порядок, а уничтожают их, так как формируемые правовые нормы, за редким исключением, преследуют лишь одну цель – удержание власти, невзирая на наступающий хаос в различных сферах. В обозначенных условиях «дух народа» заменяется «духом государства», иными словами, интересы народа подменяются эфемерными интересами государства, де-факто – правящей элиты.
Исходя из выявленных особенностей предлагаемой систематизации, учитывая, что положения обозначенных нами видов конституции нельзя рассматривать в качестве подлинных, мы выдвигаем гипотезу о том, что отсутствует и необходимость соблюдения каких-либо установленных законом требований (особой процедуры) для отмены положений такой конституции (Г. Харт писал о «правилах признания» (2007)).
Такой вывод возможен на основе идеи первоначальной и постоянной учредительной власти (Velasco-Rivera, Colón-Ríos, 2023). Первичная учредительная власть – это власть населения, полномочия на создание конституции и установление правового порядка. Данная власть принадлежит народу, который существует до конституционного порядка и независимо от него. После того как первичная учредительная власть исчерпана, правовой порядок установлен, возникает постоянная учредительная власть народа. Она обладает полномочиями на принятие новой конституции / изменение действующей и, соответственно, замену правового порядка без каких-либо созданных таким правопорядком ограничений.
Список литературы Временная тоталитарная конституция и параконституция как особые политико-правовые инструменты XX в
- Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 37. М., 1969. 980 с.
- Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 41. М., 1981. 1242 с.
- Моска Г. История политических доктрин : монография. М., 2016. 257 с.
- Ромашов Р.А. Конституция РСФСР 1918 г. как источник российского революционного конституционализма // Мир политики и социологии. 2016. № 9. С. 27-34.
- Харт Г.Л.А. Понятие права / под общ. ред. Е.В. Афонасина, С.В. Моисеева. СПб., 2007. 300 с.
- Beckman L. Democratic legitimacy does not require constitutional referendum. On ‘the constitution’ in theories of constituent power // European Constitutional Law Review. 2018. Vol. 14, no. 3. P. 567-583. https://doi.org/10.1017/S1574019618000287.
- Caenegem R.C. Constitutional history: Chance or grand design? // European Constitutional Law Review. 2009. Vol. 5, no. 3. P. 447-463. http://doi.org/10.1017/S1574019609004477.
- Velasco-Rivera M., Colón-Ríos J.I. On the legal implications of a ‘permanent’ constituent power // Global Constitutionalism. 2023. Vol. 12, no. 2. P. 269-297. https://doi.org/10.1017/S2045381722000223.