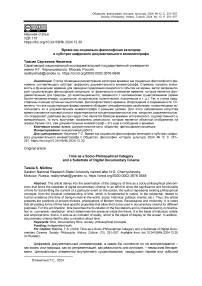Время как социально-философская категория и субстрат цифрового документального кинематографа
Автор: Никитина Таисия Сергеевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению категории времени как социально-философского феномена, составляющего субстрат цифрового документального кинематографа. Стремясь показать значимость и функционал времени для передачи содержания конкретного события на экране, автор репрезентирует существующие философские концепции: от физического понимания времени, которое является фундаментальным для природы, до экзистенциального, связанного с человеческим существованием (время бытия-человека-в-мире, социальное, историческое, политическое, психическое и т. д.). Так, в статье представлены позиции античных мыслителей, философов Нового времени, Возрождения и современности. Отмечено, что все существующие формы времени обладают специфическими свойствами, позволяющими использовать их в документальном кинематографе с разными целями. Для этого направления искусства время становится основой основ и характеризуется концентрированностью или, напротив, разреженностью, что определяет давление внутри кадра. Оно является базисом времени исторического, художественного и эмпирического, то есть выступает показатель реальности, которая является объектом отображения на экране. Кроме того, сам документальный кинематограф - это еще и сообщение о времени.
Время, документальное кино, общество, философские концепции
Короткий адрес: https://sciup.org/149147083
IDR: 149147083 | УДК: 115 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.30
Текст научной статьи Время как социально-философская категория и субстрат цифрового документального кинематографа
Moscow, Russia, ,
всегда является время. Именно оно помогает воспринять документальное кино не как накопление образов, а как целое в развитии. Камера, подобно водовороту, затягивает внутрь себя время, и сама становится своего рода «видеоворотом», балансирующим между реальностью и мифом. Даже предвизуализация, прежде чем стать пространством, сначала наполняется временем – хронологическим, психическим, художественным. Производство образов и знаков внутри документального кино представляет собой хронотеоретическую операцию, то есть линеаризацию синхронического функционирования. Таким образом, выстраиваются логические и хронологические приоритеты, в том числе и за счет темпоральности.
Исследования времени выражают суть подхода, но в глубоком понимании представляют собой блуждание вокруг времени в попытке обойти его с разных сторон. В контексте данной статьи высказывается тезис, что время является субстратом документального кино, его главным героем и связующим элементом. Оно влияет на социальную реальность, коммуникацию, идентичность, подходы в науке и изучении социально-общественной жизни; обладает невероятной силой, способной порождать и убивать. Время есть начало и конец, оно же представляет собой бесконечность. Объяснить время намного сложнее, чем существовать в нем. Как писал Августин Блаженный, «если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему, – нет, не знаю»1. Не менее образно высказался по этому вопросу М. Хайдеггер: «Я смотрю на часы и вижу: без трех минут семь. Где тут время? Отыщите-ка его»2.
Время наряду с пространством является одной из важных и устойчивых онтологических концептуальных конструкций философии. На каждом этапе развития философской мысли о времени рассуждали, спорили, «короновали» его главной проблемой метафизики. И, как сказал Х.Л. Борхес, если бы «разрешилась эта проблема, разрешилось бы и все остальное»3. В 1967 г. американский философ Х. Патнэм в своей работе «Время и физическая геометрия» утверждал, что философские проблемы о времени были решены в постфизике, имея в виду специальную теорию относительности А. Эйнштейна (Putnam, 1967). Однако, несмотря на такой смелый вывод, тема времени актуальна и остается одной из самых спорных на сегодняшний день.
Время как единство и множественность одновременно обладает непроницаемостью для понимания, что не позволяет привести данную категорию к общему знаменателю или хотя бы вычленить перманентные основные черты. Время невозможно нагнать, чтобы взглянуть «глаза в глаза», «время и прилив никого не ждут» (японская пословица).
Оно является неотъемлемым элементом человеческой жизни, не только внешней, включающей социальное взаимодействие, но и внутренней, ответственной за процесс мышления. В XX в. в литературе одной из фундаментальных попыток осмысления значения данной категории для человека стал роман М. Пруста «В поисках утраченного времени»4. Он определял жизнь как усилие во времени. Будучи тяжело больным астмой, М. Пруст писал роман словно наперегонки со временем. «Проблема времени – это фактически проблема определения точки, в которой нечто случится, из точки, в которой мы находимся»5. М.К. Мамардашвили делает вывод, что «время есть могущественный инструмент адаптации к реальности»6.
«Что есть время?» – извечный вопрос, ответ на которой искали почти все представители классической и современной философии. Античные философы в своих учениях тематизировали время. Их идеи затрагивали цикличность времени, связь с движением, прерывность и непрерывность и т. д. В данной работе рассмотрены те смыслы в понимании и трактовке времени, которые представляются важными для осмысления социальной реальности цифрового документального конструирования. Под последним нами понимается визуальное произведение, построенное на драматургической основе, созданное человеком о человеке или социальной группе в цифровом формате для дальнейшей демонстрации обществу любым доступным способом.
Отправной точкой философской темпорологии принято считать Платона. В его «Государстве», размышляя об учебном плане будущих правителей, собеседники говорят об астрономии, как важном предмете в образовательной программе, так как «внимательные наблюдения за сменой времен года, месяцев и лет пригодны не только для земледелия и мореплавания, но и не меньше для руководства военными действиями» (Платон, 1993: 311). В учении философа есть три темпоральных понятия: вечность, мгновение и время. Вечность, по Платону, выступает в качестве характеристики идеального и является причиной времени. В «Государстве» он рассуждает о вечности как о чем-то нескончаемом, в сравнении с которым «промежуток времени от нашего детства до старости очень краток» (Платон, 1993: 440). Время у Платона – особый способ становления космоса. В «Тимее», размышляя о возникновении Вселенной, философ разграничивает две вещи: «что есть вечное, не имеющее возникновения бытие и что есть вечно возникающее, но никогда не сущее. То, что постигается с помощью размышления и объяснения, очевидно, и есть вечно тождественное бытие; а то, что подвластно мнению и неразумному ощущению, возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле» (Платон, 1993: 432). Платон говорит о трех онтологических уровнях: не рождено и не погибнет, рождено, но не погибнет и было создано и должно умереть. Вечность характеризует природу как совокупность эйдосов, является началом мира и «постигается с помощью размышления и рассуждения, очевидно, это есть вечно тождественное бытие» (Платон, 1993: 432); таким образом, сама она является образцом для времени. Вечность неделима и всегда относится к настоящему.
Аристотель уходит от сопоставления времени и вечности, сущее он делит на то, что существует всегда, и то, что существует временно (Аристотель, 1981).
Плотин, как и Платон, определял время через вечность (Плотин, 2004).
С вечностью время сравнивает Августин в одиннадцатой книге «Исповеди»: «Время делает длительным множество преходящих мгновений, которые не могут не сменять одно другое; в вечности ничто не приходит, но пребывает как настоящее во всей полноте; время, как настоящее, в полноте своей пребывать не может»1. Августин опирается на внутренние чувства и ощущения, которые сопровождают человека в проживании времени, как например, его длительность. Он говорит о трех измерениях, которые обычно именуют как прошлое, настоящее и будущее. Настоящее время, по мнению Августина, кратко, поэтому рассуждать о нем можно лишь в контексте прошлого или будущего, но их нет. Философ приходит к мысли, что «есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего»2.
В цифровом документальном кино вечность представляет собой удлиненное до бесконечности существование заархивированной социальной реальности. Автор «протягивает руку вечности», давая онтологическую прописку определенному обществу, зафиксированному и сконструированную в виде второй реальности в определенный момент исторического развития. Таким образом, метафора – работа по спасению человечества – репрезентирует собирательный образ хранилища данных закодированной социальной реальности. В нем с ней ничего не происходит, и в таком «замороженном» состоянии в виде кода она всегда является чем-то настоящим и неизменным, константой. Совокупность цифровых констант представляет собой вселенную, которая является образцом для времени настоящего, в рамках которого общество обращается к закодированной социальной реальности не для того, чтобы прожить закодированное настоящее прошлого, а для того, чтобы жить в своем настоящем, опираясь на образцы и образы. Это, с одной стороны, представляет собой вечное возвращение к уже закодированным социальным данным, а с другой – является трафаретом для будущих социальных трансформаций, что подчеркивает цикличность исторического развития. Идея вечного возвращения воплощается в документальном кино также в одной из форм повторения и манипуляции идентичности, именуемой тавтологией и представляющей рамочную конструкцию.
Философская концепция вечного возвращения («Апокатастасис») приписывается стоикам. Ф. Ницше намного позже, отвергая идею линейной истории, возродил данную концепцию. В книге «Так говорил Заратустра» он писал: «Но связь причинности, в которую вплетен я, опять возвратится, – она опять создаст меня! Я сам принадлежу к причинам вечного возвращения. Я снова возвращусь с этим солнцем, с этой землею, с этим орлом, с этой змеею – не к новой жизни, не к лучшей жизни, не к жизни, похожей на прежнюю: я буду вечно возвращаться к той же самой жизни, в большом и малом, чтобы снова учить о вечном возвращении всех вещей…» (Ницше, 1990: 161).
У Ж. Делёза вечное возвращение лежит вне сознания и не имеет связи с повторениями в понимании привычки или памяти. Он писал, что «эти психологические движения мало что значат; у Ницше и Кьеркегора они уступают место повторению как двойному осуждению привычки и памяти. Именно в силу этого повторение является мышлением будущего» (Делёз, 1998: 120). Ж. Делёз именует вечное возвращение третьим синтезом времени. Оно соединяет все три измерения времени – прошлое, настоящее и будущее; есть еще чистая форма времени. Становясь ею, вечное возвращение не отталкивается от прошлого как исходного события, что влечет разрыв цикличности. В документальном кинематографе эта парадоксальность может означать разрыв с сюжетом, что называется in medias res – начало повествования без предварительной экспозиции и предыстории, дословно – с «середины дела». Это наиболее характерно для коротких форм цифрового документального кино.
Но вернемся к тавтологии. Р. Беллур полагал, что «повторы организуют смысл классических нарративных фильмов» (Bellour, 1986: 67). И в этом есть важный момент для повествования, так как повтор является одной из основ драматургической конструкции. О повторениях писал и Ж. Делёз, подчеркивая, что они состоят из различных элементов, но относящихся к строго одинаковому понятию (Делёз, 1998). Повторения, в том числе и смысловых конструкций, рождают важную категорию – ритм.
Первым теоретиком кинематографа, кто продемонстрировал ритм и обосновал его значение для визуального конструирования, был Лев Кулешов. Один из его эффектов был посвящен танцу: снятый изначально как единая сцена, он вызывал индифферентность, но, когда единство сменяло чередование кадров (монтажа), рождался ритм и появлялся интерес аудитории. Ритм понятен обществу не только в силу внутренних, биологических ритмов или бинарного различия «Я» и «не-Я», но по причине того, что и само общество организовано ритмически. А. Лефевр писал: «Общества состоят из толп, групп, тел, классов и организуются в народы. Они понимают ритмы, из которых сделаны живые существа, социальные тела и локальные группы» (Lefebvre, 1992: 42).
Понятие «ритм» затрагивает большую часть человеческих действий. М.Б. Ямпольский делает акцент на том, что между ритмом и пониманием существует фундаментальная связь, и ссылается на рассуждения Л. Клагеса. «Ритм связан с феноменом жизни, а метр – с пониманием и рациональностью. Он (Клагес) объясняет это простым опытом, предлагая вслушаться в удары молотка, бьющего абсолютно регулярно, каждую треть секунды. В какой-то момент мы начинаем воспринимать удары не изолировано, а скомпонованными парами, первый удар при этом ощущая наиболее акцентированным. Интервалы между парами постепенно станут казаться более длинными, чем между ударами внутри пары» (Ямпольский, 2018: 67). Исследователь делает вывод, что метр – это выделение в серии неких групп, которые в реальности могут не существовать. Таким образом, для автора документального конструирования ритм является одним из основополагающих инструментов, позволяющих ему ритмизировать социальную реальность внутри визуального пространства второй реальности, ускорять или замедлять время.
Аристотель указывал на связь времени с движением (Аристотель, 1981). Движение – это мера времени. Спутник движения – время, оно неразрывно связано с движением. Аристотель определит движение в качестве главной темы «Физики», время «есть число движения в отношении к предыдущему и последующему и, принадлежа непрерывному, само непрерывно…» (Аристотель: 1981: 150).
Иной точки зрения придерживался Плотин: «Время не есть движение ни в том случае, если взять все движения, ни в том случае, если сделать из всех одно, ни в том случае, если это одно определенное движение; ибо каждое из названных движений – во времени...» (Плотин, 2004: 378).
М. Хайдеггер пытался уйти от текучести времени и следования друг за другом. «Понимание основывается первично в будущем (заступание соотв. ожидание). Расположение временит первично в бывшести (возобновление соотв. забытость). Падение первично укоренено по времени в настоящем (актуализация – мгновение ока). Тем не менее понимание есть всегда “бывшествую-щее” настоящее. Тем не менее расположение временит как “актуализирующее” будущее. Тем не менее актуальность “отталкивается” от бывшествующего будущего, соответственно, она сдержана им. Отсюда становится очевидно: временность временит в каждом экстазе целой, то есть в экстатичном единстве всегда полного временения времени основана целостность структурного целого экзистенции, фактичности и падения, и значит, единство структуры заботы» (Хайдеггер, 1997: 350).
О динамической природе времени А. Бергсон заявлял уже в одной из первых своих работ «Опыт непосредственных данных сознания». Философ различал время физическое и время сознания – длительность (проживаемое время). Он характеризовал человеческое сознание через память, то есть сохранение и накопление прошлого в настоящем. Кроме того, всякое сознание способно предвосхищать будущее. Таким образом, сознание – «это связующая нить между тем, что было, и тем, что будет, мост, переброшенный между прошлым и будущим» (Бергсон, 2010: 30). Прошлое не предопределяет настоящее, хотя целиком следует за человеком, однако человек меняется в настоящем и потому свободен. Эта схема, по мнению философа, актуальна для всего, что имеет протяжение в пространстве. «Расположенное в точке слияния сознания и материи, ощущение сгущает в длительности, свойственной нам и характеризующей наше сознание, огромные периоды того, что в широком смысле можно было бы назвать длительностью вещей» (Бергсон, 2010: 37). Длительность в свою очередь всегда выражается в протяженности в силу того, что «понятия, обозначающие время, заимствованы из языка пространства. Мы взываем ко времени, а на наш призыв отвечает пространство» (Бергсон, 2010: 30). Интервал длительности существует только для человека, вне сознания есть только пространство и одновременность, а они следовать друг за другом не могут.
Трансцендентальная теория времени прежде всего связана с именами И. Канта и Э. Гуссерля.
До И. Канта время носило вторичный характер по отношению к движению. Философ переворачивает эти отношения, теперь движение зависит от времени, и более того, время перестает быть круговым, оно становится прямой линией. Для И. Канта время – априорная форма, так как «только при этом условии можно представить себе, что события существуют в одно и то же время (вместе) или в различное время (последовательно)» (Кант, 1999: 83). Время имеет только одно измерение, а различные времена существуют последовательно. И. Кант связывает время с человеческим познанием, что подчеркивает отсутствие внешнего образа.
Про внутреннее осознание времени писал и Э. Гуссерль. Он, как и И. Кант, определял время в качестве внутреннего феномена, но описывал его как интенциональное переживание наряду с другими и таким образом ставил вопрос о единстве и гомогенности временного потока. В рукописи «Бернау-манускрипты о сознании времени» Э. Гуссерль выделил несколько фундаментальных фактов, в частности, «имеется сознание протонастоящего, в котором нечто сознается как протонастоящее, как теперь сущее. Содержание сознается (в значении сознания) в качестве Теперь, и это Теперь является формой этого содержания» (Гуссерль, Шнелль, 2019: 45). Восприятие временного объекта как акта есть протопроцесс, что в свою очередь представляет актуальное восприятие между ретенцией и протенцией, иными словами, является пограничным моментом. Внутреннее время отождествляется у философа с сознанием, с его глубинными слоями. Отсюда рефлексия (ретенция смыслов), редукция и интенциональность, структуру которой Э. Гуссерль описывает, как структуру смыслообразования. И поэтому важно понимать, что «смыслообразующая функция времени заключается не в том, что некая абстрактная сущность – время – производит значения, или смыслы. Речь идет о том, что любая фиксация смысла есть как бы приостановка темпорального потока сознания, эскиз определенной темпоральной конфигурации. Смысл тем самым есть «приостановленное время» (Гуссерль, Шнелль, 2019: 91–92).
М. Хайдеггер, объясняя соединение этих двух понятий, говорит, что они определяют друг друга, но при этом бытие нельзя рассматривать как временное, а время – как сущее. Он, как Э. Гуссерль, уходит от объективного времени к временности, однако рассматривает ее не в структуре сознания, а в экзистенциальном смысле, говоря о трансцендирующем бытие Dasein. Вопрос о времени – это вопрос о смысле бытия. М. Хайдеггер, демонстрируя связь времени и бытия, подчеркивает множественность времени и, соответственно, различных режимов темпо-ральности (Хайдеггер, 1997).
Эти суждения о времени представляются крайне важными для понимания темпоральности общества – время вплетено не только в сознание, бытие, но и в эмоции, соответственно, оно обладает психологией, и оценивать его становится возможным, исходя, в том числе, и из страданий. В качестве примера можно привести меланхолию как особую грусть, которая выключает человека из повседневной жизни и включает для него другой ритм времени, более медленный, затяжной, пространный.
О том, что у времени есть психология, говорил и М. Мамардашвили в контексте своих философских изысканий, представленных в работе «Психологическая топология пути». В частности, он писал, что «у точек времени есть психологические, психические пометки, и, следовательно, они так расположены друг относительно друга, что это нам что-то позволяет и чего-то не позволяет испытать, чувствовать, понять»1. Философ ссылался на М. Пруста, который считал, что, наряду с геометрией планиметрической, мир объемен, и объемность этого времени есть его психология2. Из чего можно сделать вывод, что в контексте разговора о топологии необходимо принять мысль, что время имеет много измерений.
Э. Дюркгейм рассматривал время, содержание которого определял отдельными аспектами социального существования. Время – это социальный факт, коллективное представление, эманация социальной организации общества (Дюркгейм, 1996).
П.А. Сорокин и Р.К. Мертон заявляли, что в периоды, свободные от социальной деятельности, время не продолжается и наступает разрыв. «Каждая группа с собственными связями общего, понятного всем ритма деятельности отсчитывает свое время соответственно своему поведению (Сорокин, Мертон, 2004). В качестве одного из примеров мыслители приводят племя хаси, которое обозначает месяцы по действиям, совершаемым в каждый из них: «месяц прополки», «месяц жарки продуктов земли» и т. д.
Г. Харман, представитель спекулятивного реализма, заявлял о странности времени. Он говорил о нем как об игре постоянства и изменений, где объекты чувств инкрустированы сменяющими чертами (Харман, 2021). Время обладает странностью, которая «обнаруживается тогда, когда вторжение иномирного лавкрафтовского ужаса обнажает натяжения в структуре четвероя-кого объекта, делает очевидными пульсацию и рябь его внутренних отношений, которые в штатной повседневности вынесены за скобки экономией мышления и в итоге проигнорированы познающим субъектом. Странные композиционные объекты хармановской феноменологии укоренены в тотально странном времени, и эта странность статична» (Тихонова, Артамонов, 2021: 45).
В своих работах Г. Харман опирается на акторно-сетевую теорию Б. Латура, который в свою очередь говорил о множественности времен (Латур, 2014). Философ отталкивался от парадокса близнецов – эксперимента, целью которого было доказать противоречивость специальной теории относительности. Б. Латур приводит пример мужчины и женщины, где первый едет в комфортабельном поезде, а вторая изнурительно пробирается сквозь джунгли (Латур, 2014). Таким образом, Б. Латур показывает, как характер пути влияет на восприятие времени: для мужчины время замедляется, а для женщины, испытывающей трудности, напротив, ускоряется – разные субъекты производят разные времена. Б. Латур вводит понятие интенсивности, которое позволяет фиксировать наличие или отсутствие события (Латур, 2014). «В этой ситуации все актанты выстроены в согласованные ряды, их актантные, темпоральные и спатиальные переключения скоординированы таким образом, чтобы возникало различие между преодолеваемым пространством и проживаемым временем. Речь, конечно же, идет о сети. В сетях гораздо больше посредников (intermediaries), в то время как тропы прорубаются сквозь несетевое пространство – то, что Б. Латур позже назовет плазмой, и путешественнице постоянно приходится бороться с медиаторами (mediators). Между тропами и сетями существуют две промежуточные области: одна включает «прогрессивное» движение от троп к сетям, в другой циркуляция происходит в обратном направлении. По мнению С.С. Астахова, философ пытается связать три образа времени: семиотическое, онтологическое и материальное (Астахов, 2017). «Однако единство различных времен в слабой концепции времени Латура задано позицией человеческого свидетеля, которая выступает связующим звеном для динамичной системы сетей, троп и плазмы. Перемещаясь по слоям системы, человеческий свидетель воспринимает контраст каждого нового режима времени на основе предыдущего опыта, и именно сравнение становится основой модуса странности» (Тихонова, Артамонов, 2021: 49).
В рамках данного исследования важной представляется концепция Ж. Делёза. В работе «Кино» философ говорит о двух принципах восприятия. Первый наиболее ярко проявил себя на этапе зарождения кинематографа и условно до завершения Второй мировой войны. Этот доминирующий принцип восприятия Ж. Делёз именует как «образ – движение», то, что принадлежит «самой реальности», потому оно продолжается в создании смотрящего, так как «свет сильнее истории» (Делёз, 2004: 40). Второй – «образ – время» – Ж. Делез относит к зрелому послевоенному кинематографу как периоду обращения к подсознанию (Делёз, 2004: 291). Оно стремится к самопознанию, к саморефлексии, те сенсорные связи, что «сформировали кино исходя как из его фотографической природы, так и из несводимости кино к фотографии, уступают место образу-времени, где движение становится штампом, элементом чтения», когда возникает «инфляция образов», а «кино все больше требует мысли, даже если это влечет разрушение перцепций, эмоций, действий, которыми оно до сих пор подпитывалось» (Делёз, 2004: 23). «Кинематографисты послевоенного периода осознали: подобно тому, как манипулирование образом – движением помогает создавать саспенс, манипулирование образом – временем способствует саморефлексии. Мы не только заполняем лакуны, но и создаём новые» (Шредер, 2023: 15).
Как видим, существующие философские концепции времени рассматривают множество онтологически различных вариаций данного феномена. Их интересуют все его проявления: начиная от времени как одной из характеристик природного бытия, его физического измерения в длительности до философско-экзистенциального проявления времени, связанного с человеческим существованием: это время бытия-человека-в-мире, социальное, историческое, политическое, психическое и т. д. Каждое из них уникально и специфично. Документальность кинематографа обуславливается тесной связью со временем в том или ином его проявлении. В кадре оно репрезентирует себя как средство концентрации или разреженности истории, становясь ее главным компонентом и определяя давление внутри кадра.
Список литературы Время как социально-философская категория и субстрат цифрового документального кинематографа
- Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1981. Т. 3. 613 с.
- Астахов С.С. Странная дихотомия: пространство и время в акторно-сетевой теории // Социология власти. 2017. Т. 29, № 1. С. 59-87. https://doi.org/10.22394/2074-0492-2017-1-59-87/
- Бергсон А. Избранное. Сознание и жизнь. М., 2010. 398 с.
- Гуссерль Э., Шнелль А. Феноменология времени. М., 2019. 310 с.
- Делёз Ж. Кино: Кино-1 Образ-движение; Кино-2 Образ-время. М., 2004. 622 с.
- Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. 384 с.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М., 1996. 430 с. Кант И. Критика чистого разума. М., 1999. 655 с.
- Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую теорию. М., 2014. 381 с.
- Ницше Ф.В. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 2. 831 с.
- Платон. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1993. Т. 3. 654 с. Плотин. Третья эннеада. СПб., 2004. 478 с.
- Сорокин П., Мертон Р. Социальное время: опыт методологического и функционального анализа // Социологические исследования. 2004. № 6 (242). С. 112-119.
- Тихонова С.В., Артамонов Д.С. Странное время в объективно-ориентированной онтологии: Харман и Латур // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 63. С. 43-52. https://doi.org/10.17223/1998863X/63/5.
- Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 451 с.
- Харман Г. Объектно-ориентированная онтология: новая «теория всего». М., 2021. 270 с.
- Шредер П. Трансцендентальный стиль в кино. М., 2023. 240 с.
- Ямпольский М.Б. Без будущего. Культура и время. СПб., 2018. 122 с.
- Bellour R. Segmenting/Analyzing // Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Reader. N. Y., 1986. Р. 66-92.
- Lefebvre H. Éléments de rythmanalyse. Introduction à la connaissance des rythmes. P., 1992. 116 р. (на фр. яз.)
- Putnam H. Time and Physical Geometry // Journal of Philosophy. 1967. Vol. 64, iss. 8. P. 240-247. https://doi.org/10.2307/2024493.