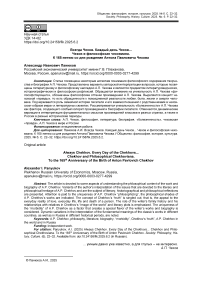Всегда Чехов. Каждый день Чехов... Чехов и философская чеховиана. К 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова
Автор: Панюков А.И.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 6, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена некоторым аспектам понимания философского содержания творчества и биографии А.П. Чехова. Представлены варианты авторской интерпретации вопросов, которые посвящены литературному и философскому наследию А.П. Чехова и являются предметом литературоведческих, историографических и философских рефлексий. Обращается внимание на уникальность А.П. Чехова «философствующего», обозначены философские оттенки произведений А.П. Чехова. Выделяется концепт чеховской «правды», то есть обращенности к повседневной реальности любви, быта, жизни и смерти человека. Подчеркивается роль семейной истории писателя и его взаимоотношений с родственниками в чеховском «образе мира» и литературных сюжетах. Рассматривается уникальность «болезненности» А.П. Чехова как фактора, создающего особый колорит произведений и биографии писателя. Отмечаются динамические вариации в интерпретации фундаментальных смыслов произведений классика в разных странах, а также в России в разные исторические периоды.
А.П. Чехов, философия, литература, биография, «болезненность», чеховская «правда», А.П. Чехов в мире и России
Короткий адрес: https://sciup.org/149148188
IDR: 149148188 | УДК: 14+82 | DOI: 10.24158/fik.2025.6.2
Текст научной статьи Всегда Чехов. Каждый день Чехов... Чехов и философская чеховиана. К 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова
Москва, Россия, ,
Антону Павловичу Чехову исполнилось 165 лет. Сегодня он – один из наиболее узнаваемых русских писателей. Известный литературный сплетник Абрам Терц однажды написал: «...существовали до нас знаменитые писатели – Бальзак, Мопассан, Лев Толстой. И был еще такой – как его? Че-че-че-Чехов» (О ничтожестве литературы русской…, 2000: 186). Вот этот «Че-че-че-Чехов», наряду с Ф. Достоевским и Л. Толстым, удивительным образом вошел в рейтинг мировых писателей. Он явился человечеству «полномочным представителем Пушкина» в мировой литературе. Еще при жизни Чехова Лев Толстой, не склонный хвалить и себя, и других, сформулировал: «Чехов – это Пушкин в прозе!» (Чехов в воспоминаниях современников…, 2005: 607). Последние сто лет чеховский тезис Льва Толстого остается актуальным. «Чехов – это послесловие к Пушкину…», – считал Г.В. Адамович (Русское зарубежье о Чехове…, 2010: 76). Пушкин начинает русскую литературу, Чехов ее завершает, так что идти дальше некуда, как писал Д.С. Мережковский (Путешествие к Чехову…, 1996: 547). О Чехове всегда что-то недосказано, и говорить, и писать о «чеховском» времени можно бесконечно долго.
Философская чеховиана: три направления . В конце ХIХ – начале ХХ века А.П. Чехов становится предметом истории философии, в рамках которой формируется особая научная дисциплина – «философская чеховиана». На сегодняшний день философская чеховиана объединяет три основных направления. Первое из них, начиная с рецензии А.С. Глинки-Волжского на «Вишневый сад» (1904), занимается анализом «философского содержания художественного творчества писателя» (Глинка-Волжский, 2005: 165). Второе направление после известной лекции С.Н. Булгакова «Чехов как мыслитель» (1904) изучает философские и исторические нюансы творчества и биографии писателя. Третье направление выявляет историографические особенности самой чеховианы. В нашей статье предпринята чрезвычайно субъективная и даже, возможно, не совсем научная попытка объединить все три направления, определяя основные темы и содержание современной философской чеховианы. В подборе рабочих аргументов и необходимых цитат мы солидарны с советом М. Горького: «О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко…» (Горький, 1988: 89).
Дачный Шопенгауэр . Вопрос о том, был ли Чехов философом, можно ли его сочинения, письма, записные книжки считать философскими произведениями и стал ли Чехов русским Шопенгауэром, остается дискуссионным. Один из ответов кажется очевидным, и он принадлежит самому Чехову: «Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр...» (Чехов. Соч. Т. 13, 1986: 102). Но как понимать эту чеховскую ремарку из «Дяди Вани»? И что значит – жить нормально? Другой ответ мы можем найти в знаменитой работе Л.И. Шестова «Творчество из ничего» (1908). Философ рассуждал: «Чехов – непримиримый враг всякого рода философии. Ни одно из действующих лиц в его произведениях не философствует, а если философствует, то обыкновенно неудачно, смешно, слабо, неубедительно» (Путешествие к Чехову…, 1996: 579). Сам Чехов в записных книжках утверждал: «…жизнь расходится с философией» (Чехов, 2024: 60).
Последователи Л.И. Шестова пошли еще дальше: по их мнению, нет даже формальных оснований считать Чехова философом. Он философию в университете, как И.С. Тургенев, В.Я. Брюсов, Б.Л. Пастернак, не изучал и не писал философские труды, как Лев Толстой и Андрей Белый.
Третья точка зрения представлена в утверждении, что Чехов был не чужд философии. Его житейские наблюдения носят сугубо философский характер. Он – великий русский философ и, по определению Д.С. Мережковского, «…величайший бытописатель», «…быт и смерть – вот два неподвижных полюса чеховского мира» (Путешествие к Чехову…, 1996: 549). А если верить Шопенгауэру, житейские размышления о повседневности и о ее неизбежном завершении – уже прямое начало всякого философствования. Александр Игнатьевич Вершинин говорил: «...мне ужасно хочется философствовать, такое у меня теперь настроение» (Чехов. Соч. Т. 13, 1986: 163). Он говорит о Чехове и от Чехова.
Чехов писал А.С. Суворину: «…толстовская философия сильно трогала меня, владела мною 6‒7 лет...» (Чехов. Письма. Т. 5, 1977: 283). Чехов был знаком с философией великих современников В.С. Соловьева и В.В. Розанова. Профессор А.А. Гапоненков установил «…факт близкого общения писателя с Соловьевым» (А.П. Чехов: pro et contra…, 2022: 715). М.О. Меньшиков и А.П. Чехов обсуждали состояние здоровья философа: «…Вл. Соловьев ослеп на один глаз, а какие красивые глаза были», – писал Чехову М.О. Меньшиков (Чехов. Письма. Т. 8, 1980: 536). Чехов состоял в переписке с В.В. Розановым. В сохранившемся письме Чехова к В.В. Розанову он сообщал: «…у меня здесь бывает беллетрист М. Горький, и мы говорим о Вас часто» (Чехов. Письма. Т. 8, 1980: 140). В.В. Розанов был фактически философским двойником Чехова, можно сказать, Чеховым в философии. У них много общего: очки/пенсне, бородка, басок, но прежде всего общий жанр «философского фельетона». Уже после смерти Антона Павловича появляются вполне чеховские антитезы в «Опавших листьях» (1912) в розановском исполнении: «Душа озябла...»; «Я не хочу истины, я хочу покоя»; «...Флюс болит…» (Розанов, 2010: 97, 157, 346). Именно у Чехова В.В. Ро- занов нашел «сокровенную суть в его собственной философии» (Наследие В.В. Розанова и современность…, 2009: 79). Чехов с «удовольствием» прочел книгу Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» (Чехов. Письма. Т. 8, 1980: 27, 377). Он обратил внимание на следующую формулу Ф. Ницше: «…даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь растения и призрака» (Ницше, 1990: 8). Хорошо известно, что он «…хотел бы встретиться с Фридрихом Ницше … где-нибудь в вагоне или на пароходе и проговорить с ним целую ночь» (Чехов. Письма. Т. 6, 1978: 29). Ницшеанские мотивы были свойственны и прозе Чехова. Л.Н. Толстой сделал 16 января 1900 г. следующую запись в дневнике: «…читал “Даму с собачкой” Чехова. Это все Ницше» (Толстой, 1985: 111). Иногда Чехов ссылался на Диогена, Сократа, Вольтера. Он был склонен цитировать философские тексты. В частности, М. Горький описал сюжет, связанный со стихотворением Генриха Гейне «Доктрина» (Горький, 1988: 421). В личной библиотеке Чехова были сочинения Марка Аврелия, Карла Каутского, Альберта Роде (Чехов и его среда…, 1930: 319–398). Чехов всегда был против «удушливой глупости» и опошления философии. «…знающих людей в Москве, – писал Чехов, – очень мало; их можно по пальцам перечесть, но зато философов, мыслителей и новаторов не оберешься – чертова пропасть... Их так много, и так быстро они плодятся, что не сочтешь их никакими логарифмами, никакими статистиками. Бросишь камень – в философа попадешь; срывается на Кузнецком вывеска – мыслителя убивает» (Чехов. Соч. Т. 16, 1987: 16–38).
Основы философской чеховианы были заложены в начале прошлого века выдающимися русскими философами: А.С. Глинкой-Волжским, С.Н. Булгаковым и Л.И. Шестовым. В 1903 г. А.С. Глинка-Волжский в «Очерках о Чехове» первым в русской литературной критике заговорил о Чехове как о философе (Глинка-Волжский, 2005: 165). В брошюре «Мистический пантеизм В.В. Розанова» (1906) он, рассуждая о русской философии, писал, что в отношении русских мыслителей европейцы, да и представители нашей академической философии всегда готовы воскликнуть: «Да разве это философы!?» (Волжский, 2021: 3). «И этот вопрос-упрек..., давно уже тяготеет над судьбами русской философии» (Волжский, 2021: 3). «Русская художественная литература – вот истинная русская философия...» (Волжский, 2021: 4). Русские писатели создают «бессистемные» «художественно-философские» системы (Волжский, 2021: 4).
В 1904 г. С.Н. Булгаков прочитал публичную лекцию «Чехов как мыслитель», в которой он определил русскую художественную литературу «философией по преимуществу» (Путешествие к Чехову…, 1996: 595), а Чехова после Толстого и Достоевского – писателем «наибольшего философского значения» (Путешествие к Чехову…, 1996: 595). С.Н. Булгаков считал, что в произведениях Чехова ярко отразилось «русское искание веры», «тоска по высшем смысле жизни», «мятущееся беспокойство русской души» и ее «больная совесть» (Путешествие к Чехову…, 1996: 596) и философский вопрос, «…дающий мировоззренческое содержание творчеству Чехова», есть вопрос о «буднях духа» (Путешествие к Чехову…, 1996: 596). С.Н. Булгаков объявил Чехова философствующим мыслителем, что для читающей публики было чрезвычайно удивительно. В свою очередь, Л.И. Шестов отказал Чехову быть мыслителем, во всяком случае «нормальным». Л.И. Шестов создает концепцию своеобразной чеховской пустоты и особого чеховского абсурда. Главная идея известной работы Л.И. Шестова о Чехове «Творчество из ничего» определяется одиннадцатым афоризмом или «стрелой» текста «Сумерки богов» Фридриха Ницше: «Может ли осел быть трагическим?» (Ницше, 1990: 559). В исполнении Л.И. Шестова вопрос звучит так: «Может ли осел быть философом?» Под «ослом» Л.И. Шестов, безусловно, понимал Чехова (Путешествие к Чехову…, 1996: 557). Здесь у Л.И. Шестова существенное расхождение с Фридрихом Ницше. У Ницше осел уже есть философ. Согласно Л.И. Шестову, если изучать «ослиную сущность в осле», то, прежде всего, нужно обратить внимание на такие характеристики ослиного, как «ничего» и «безнадежность». «Ослинность» – это осуждение на «творчество из ничего», то есть на такое дело, на которое нормальный человек, пользующийся только нормальными приемами, абсолютно не способен» (Путешествие к Чехову…, 1996: 584). Л.И. Шестов рассуждал так: «…Чехов был певцом безнадежности... ведь то, что делал Чехов, на обыкновенном языке называется преступлением и подлежит суровейшей каре» (Путешествие к Чехову…, 1996: 553). У Чехова «...удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди» (Путешествие к Чехову…, 1996: 554), «…в руках Чехова все умирало…» (Путешествие к Чехову…, 1996: 555). Еще один оригинальный вариант объяснения творчества Чехова принадлежал В.И. Ильину. Он считал, что у Чехова ощущение «безнадежности» повседневной жизни приобретает форму «трагической экзистенции». В.И. Ильин писал: «...Чехов – один из величайших поэтов того, что можно было бы назвать “трагической экзистенцией” “исчезающих в суете дней наших”» (Ильин, 2009: 455). Тема «трагической экзистенции» получила необходимое развитие в статье С.Г. Семеновой «Экзистенциальная философия Чехова», которая вошла в замечательную книгу «Русская литература ХIХ–ХХ века: от поэтики к миропониманию» (2016). В статье С.Г. Семеновой философский образ Чехова становится завершенным и избыточным.
Начиная с середины ХХ века изучение Чехова приобретает академический характер. Печатается полное собрание его сочинений и писем. Появляются специализированные сборники научных конференций. Беллетристика и эссеистика уступают место монографическим исследованиям. Несомненным достижением философской чеховианы являются монография П.Н. Долженкова «Чехов и позитивизм» (1998), статьи С.Г. Бочарова «Чехов и философия» (2006) и Е.С. Гревцовой «К вопросу о “философской судьбе” творчества А.П. Чехова» (2010). В МГУ им. М.В. Ломоносова идут защиты «чеховских» диссертаций, в том числе О.И. Родионова защитила диссертацию на тему «А.П. Чехов как мыслитель. Религиозные и философские идеи» (2013). Своеобразным итогом достижений современной чеховианы является обзорная статья проф. А.В. Маркова «Чехов дачный и не только» (2025). Исследователь фактически возвращается к старой мысли Р.И. Иванова-Разумника о том, что Чехов является, с одной стороны, блестящим идеологом, а с другой стороны – непримиримым «разоблачителем … философии пассивного самосовершенствования, этой главной спутницы общественного мещанства» (Иванов-Разумник, 1997: 130). Сегодня в эпоху цифровой революции «вялой», «апатичной», «лениво философствующей, холодной интеллигенции» для комфортного существования вновь нужен «дачный Чехов-Шопенгауэр» (Чехов. Письма. Т. 3, 1976: 309). «... я бы хотел ковров, камина, бронзы и ученых разговоров...», – писал Чехов А.С. Суворину (Чехов. Письма. Т. 4, 1976: 267). Все это про нас и о нас! Пахнет дачным Шопенгауэром!
Знаток «голенькой» правды . По общему мнению, Чехов был знатоком русской жизни и ее «голенькой» правды. В.В. Розанов отмечал: «…хорош тот писатель, читая которого неловко, словно тебя оголили; я это чувствовал, читая Чехова» (Розанов, 1989: 572). «Голенькая» правда самого Чехова – в его письмах. В них он предельно честен. Циничная откровенность, неповторимая, особая, чеховская. Даже купюры в тексте академического издания писем не могут скрыть чеховскую «голенькую» правду. На М.А. Булгакова переписка Чехова с женой произвела «отвратительное впечатление» (Булгаков, 1990: 531). Какое-то время О.Л. Книппер продолжала писать письма мужу, ушедшему из посюстороннего в потусторонний мир. Кажется, артистка любила не этого мужчину, а его тень. Через месяц после смерти Чехова она сделала следующую запись в дневнике: «Сегодня я приехала в Москву, побывала на твоей могилке... Как там хорошо, если бы ты знал!» (Чехов, 2003: 774). Возможно, это вечная любовь? Но где письма и были ли?
Тема «голенькой» правды в мировой литературе остается актуальной. Литературные вершины «голенькой» правды – «метафизический реализм» Юрия Мамлеева и «грязный реализм» Чарлза Буковски. Вспомните знаменитые строки Александра Галича из «Красного треугольника»: «Вот стою я перед вами, словно голенький…» (Галич, 1990: 115).
Для каждого поколения - свой Чехов! Мир ждет нового Чехова. Количеству изданных за последние сто лет сочинений Чехова и книг о нем русская чеховиана уступает русской пушкиниане. Но иностранная чеховиана, безусловно, лидирует в мировом книжном пространстве. Мир любит Чехова. Мировой Чехов необъятный. Начиная с января 1990 г., когда Райнер Мария Рильке приступил к переводу «Чайки» (Рильке и Россия…, 2003: 178), популярность Чехова, прежде всего у немцев, англичан и китайцев, неуклонно растет. Активно работает Международное Чеховское общество. Чехов остается признанным мировым классиком. Мир с удовольствием читает Чехова. «…так тогда не писали, но и теперь так хорошо почти не пишут…», – сказал о Чехове другой классик, Борис Зайцев (Зайцев, 2011: 59).
Непревзойденными остаются англоязычные чеховские лекции В.В. Набокова (1981) и современная «биография-вымысел» Чехова британского исследователя, доктора философии Дональда Рейфилда (1997). Автор книги «Немой Онегин», журналист А.В. Минкин, ругает профессора Рейфилда за излишнее внимание к интимным подробностям биографии Чехова. Хорошая реклама прежде всего самому журналисту! И все же лучшие литературные биографии Чехова были созданы на русском языке писателем Б.К. Зайцевым – «Чехов» (1954) и историком литературы А.П. Чудаковым – «Антон Павлович Чехов» (1987). Из публикаций последнего времени, безусловно, удачными можно считать монографию В.С. Зайцева «Товарищ Чехов. Очерки по истории советского чеховедения 1920–1950-х годов» (2022) и книгу «Чехов в жизни» (2024) профессора Санкт-Петербургского университета И.Н. Сухих.
Чехов всегда современный. А.А. Галич, И.А. Бродский, В.О. Пелевин и другие классики предлагают читателю разного Чехова. Поколение ХХI века встречает своего Чехова. Его имя превратилось в особый русский бренд – «ЧЕ». Но что это значит и куда зовет новый Чехов, пока сказать трудно.
Писатель без биографии. Биография для Чехова – «ненужная деталь». Для Чехова важен только литературный текст. Литература живее жизни. Литературу он называет любовницей (Чехов. Письма. Т. 2, 1975: 326). Жизнь для него, скорее всего, не мать, но мачеха. Жизнь интересна Чехову только как быт. «У Чехова, как и у “чеховских” героев, – писал Л.И. Шестов, – нет жизни, а есть только быт» (Путешествие к Чехову…, 1996: 549). Главное в поэтике Чехова – описание быта. Описание быта у него превращается в «…густой художественный ликер, который можно пить только небольшими глотками» (Русская литература ХХ века…, 2004: 28). Г.В. Адамович удивительно верно подметил, что Чехов – «самый тихий русский писатель» (Русская идея. Т. 1., 1994: 498). Он не участвовал в мещанских драмах: не дрался на дуэли, как А.С. Пушкин, не сжег, как Н.В. Гоголь, рукописи, не играл в карты, как Н.А. Некрасов, не стоял на эшафоте, как Ф.М. Достоевский, не служил вицегубернатором, как М.Е. Салтыков-Щедрин, не клал печку крестьянке Аксинье Базыкиной, как Лев Толстой. Чехов «…покойно выпил шампанского… тихо лег на левый бок и умер…» (Чехов в воспоминаниях современников…, 2005: 712). «И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп – труп поэта – в вагон для перевозки “устриц”», – негодовал в очерке «Чехов» (1904) М. Горький (Горький, 1988: 82). Но удивительно, что он пережил А.С. Пушкина.
Чехов был как бы вне жизненного времени и вне исторического пространства. З.Н. Гиппиус вспоминала: «…мы часто встречались с ним... и при каждой встрече – он был тот же, не старше и не моложе...» (Путешествие к Чехову…, 1996, 523). Он «…казался природно без лет» (Путешествие к Чехову…, 1996: 523). Все, что происходило с Чеховым в текущей жизни, кажется вполне повседневной и вполне грустной историей. Да и герои его безвольно предаются своим состояниям и настроениям, не совершая поступки. Сам Чехов накануне тридцатилетия писал: «…в январе мне стукнет 30 лет... Здравствуй, одинокая старость, догорай, бесполезная жизнь» (Чехов. Письма. Т. 3, 1976: 300).
Вместе с тем Чехов сделал неплохую карьеру: внук крепостного мужика, сын купца второй гильдии, «мальчик» в бакалейной лавке, провинциальный гимназист, студент Московского императорского университета, уездный врач, потомственный дворянин, академик, кавалер ордена Св. Станислава третьей степени.
Важная деталь биографии Чехова: он – писатель «с московским акцентом». Три сестры жили на Старой Басманной улице, Вершинин – на Немецкой улице, сам Чехов жил на Малой Дмитровке, Садовой-Кудринской улице и в Леонтьевском переулке. Чехов всегда стремился и всегда возвращался в Москву. Наконец, он похоронен в Москве. Знаменитые слова Ирины из «Трех сестёр» «…лучше Москвы нет ничего на свете» (Чехов, Соч. Т. 13, 1986: 170) – символ самого Чехова. О.Э. Мандельштам предлагал «выдать сестрам билеты и отправить в Москву: «В Москву! В Москву!». Москва завораживала! «Даже не Москва... это слишком неопределенно, а Старая Басманная, дом на Старой Басманной», – писал Иннокентий Анненский (2014: 125).
Наконец, Чехов – «стандарт» русского интеллигента-гедониста: потомственный циник, убежденный холостяк, неутомимый ловелас и игривый женоненавистник. Он повсеместно стремился к жизненному комфорту и чувственному удовольствию. В письмах он делился следующими подробностями повседневности: «Тайны любви постиг я, будучи 13 лет» (Чехов. Письма. Т. 4, 1976: 362); «... жена – это большая холодная котлета» (Чехов, 2024: 85); «Мы, старые холостяки, пахнем, как собаки...» (Чехов. Письма. Т. 4, 1976: 272); «Женщины, которые употребляются, или, выражаясь по-московски, тараканятся, на каждом диване, не суть бешеные, это дохлые кошки, страдающие нимфоманией. Диван ‒ очень неудобная мебель. Его обвиняют в блуде чаще, чем он того заслуживает. Я раз в жизни только пользовался диваном и проклял его» (Сухих, 2024: 244). В других письмах А.С. Суворину он сообщал: «…живу с апломбом…»; «…на моей совести 3 греха, которые не дают мне покоя: 1) курю, 2) иногда пью и 3) не знаю языков» (Чехов. Письма. Т. 1, 1974: 265). Курил сигары, которые называл «сиги», любил молоко и бульон, кофе и мармелад. Водку, вино и пиво считал медикаментами, но, по собственному признанию, не знал толк в винах, один никогда не пил (Чехов. Письма. Т. 3, 1976: 24), летом ходил в красной рубахе и белом костюме, говорил басом, ростом был 186 см. «Хорош божий свет. Одно только нехорошо: мы», – писал он (Чехов. Письма. Т. 4, 1976: 140).
Л.И. Шестов дал такую житейскую характеристику Чехову: «...Чехов – надорвавшийся, ненормальный человек» (Путешествие к Чехову…, 1996: 568). Это еще было бы полбеды. Любопытно иное – вольное или невольное и постоянное присутствие в жизни Чехова большого количества «надорвавшихся» и «ненормальных» людей, включая мать, отца, братьев, сестру. Сам же Чехов писал: «…все ужасно глупо и скучно. Не люди, а какая-то плесень...» (Чехов. Письма. Т. 4, 1976: 162). Семью называл утробою. Отец Чехова – Павел Егорович, лавочник, мелкий жулик и садист. В свободное от жульничества время он пишет иконы и с самозабвением играет на скрипке. Он – большой любитель церковного песнопения и отеческих увещеваний. Сына назвал модным и редким для православия именем. Антон – это не только православный Антоний, но и один из эпитетов языческого Диониса. В автобиографической повести «Три года» (1894) Чехов писал: «…я помню, отец начал учить меня, или, попросту говоря, бить. Когда мне не было еще и пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь, каждое утро думал прежде всего: будут ли сегодня драть меня?» (Чехов. Соч. Т. 18, 1988: 39). Отеческие «садистские» увещевания пошли на пользу. Семья дала Чехову хорошее образование и хорошее воспитание.
Антон Павлович жаловался А.С. Суворину: «Что мне делать с братом? Горе, да и только... Он страдает запоем - несомненно. Что такое запой? Этот психоз такой же, как морфинизм, онанизм, нимфомания и проч.» (Чехов. Письма. Т. 3, 1976: 24). Литературные и житейские наблюдения Чехова становятся ценнейшим медицинским материалом для описания «душевной болезни» (Шубин, 1985: 171). Профессор Б.М. Шубин подчеркивал, что редкая научная работа по душевным расстройствам «обходится без цитат из записной книжки Чехова» (Шубин, 1985: 115). И все же, именно «больной» брат Николай написал лучший портрет Антона Павловича. Доктор Астров говорил: «...кругом одни чудаки, сплошь одни чудаки; а поживешь с ними года два-три и мало-помалу сам, незаметно для себя, становишься чудаком...» (Чехов. Соч. Т. 13, 1985: 63-64). Да и сам писатель живет около чудаков и рядом с чудаками и иногда совершает «чудаковатые» поступки. В своем кабинете «...на горке книг... установил человеческий череп, наводивший страх и трепет на всех обитателей дома» (А.П. Чехов. Литературный быт., 1928: 14). Держал дома самку и самца мангустов. Самца звал «Сволочь». «Это помесь крысы с крокодилом, тигром и обезьяной», - объяснял он Н.А. Лейкину (Чехов. Письма. Т. 4, 1976: 142). В Риме и Томске он был покупателем женского тела. Вернувшись из «пакостного места», он сообщал А.С. Суворину: «Противно» (Чехов. Письма. Т. 4, 1976: 94). На Цейлоне «...имел сношение с черноглазой индуской... и где же? В кокосовом лесу, в лунную ночь.», - хвастался он в письме тому же А.С. Суворину (Сухих, 2024: 201). Зачем-то поехал в странное и опасное путешествие на Сахалин. По нравственным меркам XIX века, для сына лавочника все эти сюжеты достаточно оригинальны и неожиданны по отношению к жизни. В целом, «неизбежная участь» повседневного человека. Но, по заявлению самого Чехова, «прохвостом» он никогда не был, «не шантажировал, не писал ни пасквилей, ни доносов, не льстил, не лгал, не оскорблял...» (Чехов. Письма. Т. 4, 1976: 56). И это чистая правда.
Дедушки и бабушки Чехова были крепостные дворян Чертковых. И.А. Бунин писал: «.дед, бабка, мать, отец, дядя Чехова - все мужики и все широкоскулые. Просто страшно смотреть...» (Бунин, 1988: 192). В 1899 г. Николай II пожаловал Чехову титул потомственного дворянина. Дворянин Чехов «без капли плебейства» ведет деловую переписку с внуком этих крепостников, графом В.Г. Чертковым - интимным компаньоном другого графа - Л.Н. Толстого. В гимназии Чехова учит отец будущего «рыцаря революции» Феликса Дзержинского и хороший математик - Эдмунд Дзержинский. Интересно, что Пушкина в лицее учил брат Марата. Однако ни А.С. Пушкин, ни Чехов не выбрали профессию революционера. Они стали героями мещанской трагедии. Еще несколько любопытных фактов. В разное время Чехов и В.И. Ленин были постояльцами отеля «Оазис» в Ницце. Свидетельство об утверждении Чехова в звании уездного врача подписал Н.В. Склифосовский. Сборник рассказов «Хмурые люди» Чехов посвятил П.И. Чайковскому. Позднее Д.Д. Шостакович говорил о том, что «Чайковский создал Шестую симфонию, а Чехов написал “Черного монаха” (к слову сказать, одно из самых музыкальных произведений русской литературы, написанное почти как соната)» (Дмитрий Шостакович в письмах и документах., 2000: 52). С.В. Рахманинов написал романс на слова последнего монолога Сони из «Дяди Вани» «Мы отдохнем». Подобно советскому классику Михаилу Михайловичу Зощенко, Чехов увлекался изучением истории половых отношений (Шубин, 1985: 115).
Разве сами по себе эти и другие «неочевидные жизненные параллели» не удивительны? Разве они не повод для размышлений?
Чахоточный гений и чахоточная литература . В антологии мудрых мыслей «Философские определения жизни» (1883) Антоша Чехонте сообщал читающей публике: «Жизнь нашу можно уподобить лежанию в бане на верхней полочке. Жарко, душно и туманно...», а еще «чахоточно» (Чехов. Соч. Т. 1, 1983: 470). Неизменной «нянькой» Чехова (Чехов. Письма. Т. 5, 1977: 229), спутницей и подругой его жизни становится «самоцветная» болезнь: бронхит, гастрит, геморрой и кавернозный туберкулез (Шубин, 1985: 201). Для Чехова болезнь - публичное дело. Язвительный И.А. Бунин где-то заметил, что он даже о приступах геморроя извещал знакомых: «...у меня дюжина две болезней с геморроем во главе. От геморроя сильное раздражение во всем теле.», - писал он И.И. Горбунову-Посадову (Чехов. Письма. Т. 5, 1977: 209); «У меня обстоятельный катарище кишок...», - сообщал он В.С. Миролюбову (Чехов. Письма. Т. 12, 1983: 100); «...у меня кашель, насморк, сап, импотенция, гидрофобия и проч., и проч.», - писал он В.А. Тихонову (Чехов. Письма. Т. 3, 1976: 300); «Сейчас принял касторки. - Бррр!», - делился он с Н.А. Лейкиным (Чехов. Письма. Т. 4, 1976: 142); «Я хвораю. Инфлуэнца, кашель, болят зубы», - жаловался он А.Н. Плещееву (Чехов. Письма. Т. 3, 1976: 302); «.сегодня ночью у меня жестокое сердцебиение.», - писал он А.С. Суворину (Чехов. Письма. Т. 5, 1977: 229). Кто может сказать, зачем он все это сообщал публике? С декабря 1884 г. Чехов узнал чахотку. Ему было 24 года. Болел он чахоткой около 20 лет. Кавернозный туберкулез превратился в знаменитую чеховскую чахотку: «…кровохаркание ... ничего, выпей водочки.», - выписал сам себе рецепт доктор Чехов (Чехов, 2024: 114).
По поводу чахотки Чехов был уверен, что «...болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас хорошие цели и послана недаром...» (Чехов. Письма. Т. 5, 1977: 134). Возможно, для него это был божий промысел. И.Л. Солоневич утверждал, что если Ф.М. Достоевский в русской литературе «выразил свою эпилепсию», то Чехов «выразил свою чахотку» (Русская идея. Т. 2, 1994: 330). Как для Франциска Ассизского «метафизической женой» была «госпожа бедность», так для Чехова – «госпожа чахотка»: задушевная собеседница, умная наставница и строгая учительница. Чахотка необходима Чехову, как кокаин Зигмунду Фрейду или морфий Валерию Брюсову. Психиатр В.Ф. Чиж полагал, что чахотка, возможно, также, как алкоголь и наркотики, иногда стимулирует художественное творчество. Для Чехова чахотка – Богом определенная дорога к вершинам творчества. «…лечиться я не буду. Воды и хину принимать буду, но выслушивать себя не позволю», ‒ написал он 18 ноября 1891 г. (Чехов. Письма. Т. 4, 1986: 297).
В прошлом веке в социологии литературы появились термины «чахоточный гений» и «чахоточная литература» (Андреенко, 2011: 31). Критические исследования чахоточной литературы сегодня избыточны. Александр Дюма-сын, Эмиль Золя, Франц Кафка, Сомерсет Моэм, Роберт Музиль, Альбер Камю, Томас Манн и многие другие авторы рассматриваются как гении и классики «чахоточной литературы». Первая муза Ф.М. Достоевского – «чахоточная» Мария Дмитриевна Исаева. В чахоточной литературе можно усмотреть неуловимые смыслы повседневности. Есть что-то общее между дамой, которая с собачкой, и дамой, которая без собачки, но с камелиями. Современный французский философ Андре Глюксман, рассуждая о Чехове, писал: «…бо-лезнь раскрывает мрак жизни» (Глюксман, 2006: 210).
В конце ХIХ – начале ХХ века русская литература от тургеневской и «кисейной» девушки переходит к чеховской и «чахоточной» деве. Самая знаменитая «чахоточная дева» русской литературы – Анна Андреевна Ахматова. В 1913 г. она писала: «И жар по вечерам, и утром вялость, / И губ растрескавшихся вкус кровавый...»1.
«Чахоточные» метафоры в русской литературе многообразны: у А.С. Пушкина – «чахоточная дева» («Осень»); у Чехова – «липы чахоточные» («Скучная история»); у И.Л. Солоневича – «Чехов чахоточно плакал над срубленным “Вишневым садом”» (Русская идея. Т. 2, 1994: 335; у В.В. Маяковского – «Чахотка в нервах подергивающихся проводов» («Дохлая луна»); у Виктора Когана – «Чахоточная ночь в крови заката» («45-я параллель»); у красноярского писателя Александра Григоренко – «Чахоточная дева» – мечта, идеал.
О Семене Надсоне Чехов отзывался как о «лучшем современном поэте» (Чехов. Письма. Т. 2, 1975: 26). Смертельно больной двадцатилетний С.Я. Надсон в стихотворении «Завеса сброшена» (1882) написал знаменитые строки: «Мгла безнадежности в измученной груди... / Как мало прожито – как много пережито!»2. Чахотка становится модным событием жизни обывателя. В России началась эпидемия чахоточной поэзии. С.Я. Надсоном увлекалась еще одна «чахоточная дева» русской литературы – Зинаида Гиппиус. «Чахоточные переживания» делают человека мудрым, делают человека философом. Чахоточная тема завершает переход русской литературы в мировое философское пространство.
Романы Томаса Манна «Волшебная гора» (1924) и Константина Федина «Санаторий Арктур» (1940) – классические вершины чахоточной литературы. Эти произведения вводят читателя в неповторимый мир чахоточных грез. Арктуровский доктор Штум говорит: «Надо плевать. Непременно как следует, по-настоящему плевать. Отхаркиваться и плевать надо научиться, это – как азбука»3. Но основные интенции чахоточной литературы были намечены Чеховым. В рассказе «Цветы запоздалые» (1882) и повести «Черный монах» (1893) Чехов определенно решает, что чахотка лучше обыденной тусклой жизни. Начиная с Чехова, неизвестность настоящего и определенность будущего становятся основными экзистенциальными темами мировой прозы и поэзии.
Борьба с «чеховщиной» и советский Чехов . Для раннего Советского Союза Чехов был ненужным и опасным писателем. Активное равнодушие Чехова к религии и церкви не сблизило его с официальной советской идеологией. К.И. Чуковский в статье «Чехов и христианство» (1910) верно подметил: «…он о Боге никогда не сказал ни слова, он все говорил и говорил о селянке...» (Чуковский, 2003: 488). Партийные агитаторы справедливо увидели в «трапезовании» Чехова угрозу коммунистическому быту. Он – скрытый классовый враг, в книгах которого нашли отражение чуждые советскому человеку жизненные идеалы. В революционной России Чехов оказался чужим.
Борьбу с так называемой чеховщиной (почти что, наверное, провокационной мещанско-соблазнительной «чертовщиной» в его понимании) возглавил старый большевик М.С. Ольминский. Борьба была принципиальной и жесткой: «…ударить, и крепко ударить, по пилатчине…», – призывал булгаковский критик Мстислав Лаврович1. Термин «чеховщина» имел богатую дореволюционную историю и был введен Д.В. Философовым в начале ХХ века. Он боролся с «чеховщиной» и призывал: «... не поддавайтесь соблазну чеховщины. Липовый чай хорош для больных, для тех, у кого ножки гудут» (Философов, 2010: 332). «Чеховщина» включает в себя мещанство с «правилами» и литературу, «небесполезную для пищеварения». Публике чеховские «каламбурчики» нравились: «в меру юмор, в меру пошлость, в меру лирика». Не избежал увлечения Чеховым и молодой И.В. Сталин. Чехов даже в каком-то смысле обустраивал И.В. Сталину семейное счастье. А.С. Аллилуева вспоминала, что, когда И.В. Сталин был женихом, он читал невесте за чаем «Хамелеона» и «Душечку». Невеста «таяла» так безропотно, что в конечном итоге стала женой генерального секретаря (Аллилуева, 1946: 190). Между прочим, все эти литературные истории академик П.Н. Федосеев вполне по-чеховски назвал «пылью». Нужно согласиться и с В.В. Розановым, который писал, что «...Россию убила литература. Из слагающих “разложителей” России ни одного нет нелитературного происхождения. Трудно представить себе... И, однако, – так» (Розанов, 2000: 43).
Революция сместила акценты в борьбе с «чеховщиной», но неизменным осталось нетерпимое отношение партийцев к Чехову. Л.Д. Троцкий определил Чехова в родоначальники «...новейшей русской литературы, насквозь пропитанной мещанственностью» (Троцкий, 1991: 278). Уникальность борьбы партии в 1920-е гг. с бытовым мещанством заключалась прежде всего в разоблачении советской «чеховщины». Неожиданным союзником Чехова оказался В.И. Ленин. Известно, что В.И. Ленин достаточно часто обращался к Чехову. Советский библиофил Ю.П. Шарапов подсчитал, что он 15 раз цитировал Чехова в своих работах. Льва Толстого, к примеру, он цитировал всего 7 раз (Шарапов, 1977: 143). Несмотря на ленинскую любовь к Чехову, широкой партийной массе Лев Толстой был все же ближе. Литературный критик В.Е. Чешихин-Ветринский утверждал, что «…в абсолютных требованиях морали Толстого…» можно говорить в известном смысле о «большевизме» (Чешихин-Ветринский, 1929: 355). Для многих партийцев «не красный» граф Лев Толстой был почти что большевик. О «большевизме» Л.Н. Толстого убедительно писал и Н.А. Бердяев. А кто такой Чехов? Он – мещанин и обыватель. Он не призывал к усовершенствованию человека и переустройству общества. Он неудобный писатель для всяких аутентичных революционеров, реформаторов и активистов. В учебном пособии по истории русской литературы Я.А. Назаренко подчеркивал: «…стиль Чехова – памятник капиталистической эпохи, когда буржуазия стремилась к физическому самоудовлетворению, искала за деньги во всем развлечений и удовольствий...»2.
Любопытно, что многие высказывания партийных деятелей первых лет советской власти практически совпадали с оценками дореволюционной либеральной критики, которая считала «творения Чехова» одной «сплошной селянкой»: «…а вы судаком по-польски кормили? А, не кормили! Надо кормить. Вот и ушел…», – цитирует Чехова в очерке «Два Чехова» (1914) В.В. Ма-яковский3. Среди лозунгов Маяковского в знаменитом «героическом, эпическом и сатирическом изображении нашей эпохи» в «Мистерии-буфф» (1918) есть и такой: «Нам не до Чаек. На смену птице – “насекомое”», – комментировал идеологические нападки на Чехова композитор Г.В. Свиридов (Свиридов, 2017: 292). Впоследствии советская литературная критика записала Чехова в импрессионисты. Обо всех этих чеховских перипетиях подробно рассказал И.Г. Эренбург в эссе «Перечитывая Чехова» (1959). Античеховские настроения агрессивно поддержали А.А. Ахматова и О.Э. Мандельштам.
Советская реабилитация Чехова состоялась в первые месяцы Великой Отечественной войны. 6 ноября 1941 г. на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся в докладе, посвященном ХХIV годовщине Октябрьской революции, И.В. Сталин поставил имя Чехова рядом с именами В.И. Ленина и Г.В. Плеханова. Он назвал «великую русскую нацию» нацией Чехова. Чехов был возвращен читателю. В 1944 г. в издательстве «Советский писатель» вышла книга ведущего партийного критика В.В. Ермилова «Чехов: Творческий портрет». В 1946 г. в массовой серии «ЖЗЛ» он напечатал популярную биографию Чехова. Описание жизни и творчества Чехова он завершил разделом «Наш Чехов». В.В. Ермилов, продолжая Сталина, определил Чехова
«очень, очень русским человеком» (Ермилов, 1946: 430). Возвращение Чехова в русскую классику означало переход от революционных принципов к национальным ценностям. «…и в каждой новой победе, – писал В.В. Ермилов, – будет участвовать своим трудом, своей правдой, своей мечтой светлый гений простого русского человека, Антона Павловича Чехова» (Ермилов, 1946: 434).
В 1960–1970-е гг. партийные идеологи неожиданно увидели в Чехове союзника в обличении, по определению Ю.В. Андропова, «нажитков социализма»: карьеризма, бюрократизма и всякой иной житейской мерзости. Чехов стал «нашим современником», классиком школьной программы и даже автором популярного детектива. На больших экранах с успехом идет криминальная драма «Мой ласковый и нежный зверь» (1978). В фильме играют народные артисты СССР Кирилл Лавров, Олег Янковский, Леонид Марков, звучит музыка народного артиста СССР Евгения Доги. Пошлость снова торжествует: за что боролись, на то и напоролись. Л.И. Брежнев и другие члены Политбюро в свободное от работы время играют в домино. Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской выпускает линейку шоколадной продукции «Русская литература», в которой представлен специальный номинал «Чехов». Конфетный Чехов! В СССР мещанство побеждает революционные идеалы.
Вместе с тем самый чеховский классик советской литературы, поэт А.Т. Твардовский, отдал дань чеховской экзистенции замечательной лирикой: «На дне моей жизни / на самом донышке... // Я думу свою / без помехи подслушаю, / Черту подведу / стариковскою палочкой: / Нет, все-таки нет, / ничего, что по случаю / Я здесь побывал / и отметился галочкой»1.
В завершение статьи, подводя итог, хочется процитировать современного российского историка, профессора И.В. Яблочкину: «...всегда Чехов. Каждый день Чехов...».