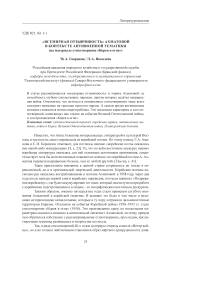"Всемирная отзывчивость" Ахматовой в контексте антивоенной тематики (на материале стихотворения "Корея в огне")
Автор: Гавриков Виталий Александрович, Яковлева Любовь Анатольевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается «всемирная отзывчивость» в лирике Ахматовой: ее способность глубоко сочувствовать народам, против которых ведётся неправедная война. Отмечается, что поэтесса в антивоенных стихотворениях чаще всего заостряет внимание на трагедии простого народа. А самым ярким антивоенным мотивом становится мотив смерти ребенка. Эти тенденции характерны и для стихотворений, написанных как отклик на события Великой Отечественной войны, и для произведения «Корея в огне».
Художественный перевод, корейская лирика, антивоенные мотивы, война в корее, великая отечественная война, ленинградская блокада
Короткий адрес: https://sciup.org/146121996
IDR: 146121996 | УДК: 821.161.1-1
Текст научной статьи "Всемирная отзывчивость" Ахматовой в контексте антивоенной тематики (на материале стихотворения "Корея в огне")
Известно, что Анна Ахматова интересовалась литературой и культурой Востока, в частности, много переводила из корейской поэзии. По этому поводу Г. А. Аманова и С. И. Кормилов отмечают, для поэтессы именно «корейские поэты оказались вне какой-либо конкуренции» [4, с. 23]. То, что во всём восточном дискурсе именно корейская литература оказалась для неё основным источником притяжения, свидетельствует хотя бы количественные показатели: именно «из корейской поэзии А. Ахматова перевела несравненно больше, чем из любой другой» [Там же, с. 41].
Такое пристальное внимание к данной стране сохранялось не только в переводческой, но и в оригинальной творческой деятельности. Корейские мотивы несколько раз оказались востребованными в поэтике Ахматовой: в 1958 году, через два года после выхода первой книги корейских переводов, поэтесса напишет «Подражание корейскому», где будет аккумулирован тот опыт, который она получила при работе с корейскими подстрочниками и в общем – со специфическим восточным дискурсом.
Такими образом, именно пятидесятые годы стали временем сугубого внимания Ахматовой к корейской тематике. И вызвано это было в том числе и великими историческими катаклизмами, которые в ту пору сотрясали дальневосточные территории Евразии. Откликом на события Корейской войны 1950–1953 гг. стало стихотворение «Корея в огне» (1950). Это произведение сразу по нескольким параметрам оказалось вписано в антивоенный мегатекст Ахматовой, поэтому прежде чем обратиться собственно с рассматриваемому стихотворению, проследим, как антивоенная тематика развивалась в творчестве поэтессы.
Так, в ряде стихотворений 40-х годов (в первую очередь в цикле «Ветер войны», но и не только) лейтмотивом становится образ мёртвого (разрушенного) дома.
Родной очаг, Ленинград и некрополь оказываются изоморфными локусами. И среди реалистических картин иногда появляются видения из небытия, так что образы как бы двоятся, прочитываясь в двух регистрах: потустороннем и посюстороннем.
Как известно, поэтесса была эвакуирована не сразу из попавшего в кольцо врагов Ленинграда. Однако страшнее тех личных впечатлений, которые она получила, будучи в блокадном городе, оказались известия о смерти многих людей, которых знала Ахматова. Кто-то погиб от голода, кто-то – от бомбёжек. Возвратившись в родной город после снятия блокады, поэтесса напишет стихотворение, в котором слышится боль за всех тех, кто не увидел светлого часа освобождения. В 1944 году появляется по этому поводу стихотворение «Причитание» – своеобразный поминальный плач по умершим, которых связала общая боль и общая беда: «Слезами не смою, / В землю не зарою. / За версту я обойду / Ленинградскую беду» (здесь и далее стихи Ахматовой цит. по: [1]). Да, у Ахматовой были и патетические произведения связанные с Великой Отечественной (например, «Клятва», «Мужество»), однако тема трагедии остаётся всё-таки ключевой. Поэтому нельзя согласиться с некоторыми исследователями, которые сводят военную лирику Ахматовой только к боевому пафосу: «Долгие годы Музой Ахматовой была Муза печали – плакальщица, а в годы Великой Отечественной войны ее голос становится сильным, мужественным, бесстрашным» [5].
Самыми пронзительными стихотворениями о блокадных временах оказались те, где речь идет о смерти детей. Эта тема, которая берет своё начало ещё в ранних стихотворениях (например, «Где, высокая, твой цыганенок…», 1914), актуализируется в ряде страшных фантасмагорических (но при этом сделанных «на реальной основе») образах. Лирическая героиня Ахматовой чувствует себя матерью всех погибших и замученных голодом детей блокадного Ленинграда: «Питерские сироты, / Детоньки мои. / Под землей не дышится, / Боль сверлит висок».
Обратим внимание, что мёртвые дети названы сиротами. Здесь, вероятно, речь идёт не о прямом значении слова, а о переосмыслении сиротства в метафизическом смысле. Ахматова, будучи верующей христианкой, конечно, знала, сколь важным для мёртвого (по крайней мере, в православной традиции) является поминание со стороны живых. Родными по духу становятся те, кто связан единой молитвой и единой верой. Поэтому мёртвые дети, многие из которых остаются без поминовения (как правило, участь родителей была та же – смерть) как бы усыновляются поэтессой. Этот своеобразный жанр стихотворения-молитвы-поминовения – далеко не единственный пример в творчестве Ахматовой, достаточно вспомнить её адресованный цикл «Венок мёртвым».
Свидетельства того, что поэтесса воспринимала всех погибших детей Ленинграда как своих, можно отыскать и в стихотворении «Nox» (статуя «Ночь» в Летнем саду). Мотив погребения дополняется здесь мотивом вселенской ночи, которая дана явно с эсхатологическими коннотациями: «Доченька! / Как мы тебя укрывали / Свежей садовой землей». Как известно, у Ахматовой не было родной дочери – и все девочки Ленинграда оказываются для неё родными детьми. О том, что участь погребённой далеко не единична, свидетельствуют последние строки произведения: «Это проходят над городом нашим / Страшные сестры твои». Конечно, не обязательно воспринимать эти строки буквально: «сёстрами» могут быть названы и атмосферные явления (например, зарницы), и звезды, и вообще – ночи (ср. название стихотворения). Однако, вероятнее всего, перед нами тени погибших.
Еще одним произведением, где лирическая героиня скорбит об умершем ребенке, является текст «Постучись кулачком – я открою». Он посвящён знакомо- му Ахматовой ленинградскому мальчику Вале Смирнову, погибшему в блокадном городе. Стихотворение написано в Ташкенте, поэтому поэтесса отмечает: «Я теперь за высокой горою, / За пустыней, за ветром и зноем». Однако она не сомневается в возможности встречи и преодоления географических расстояний: ведь беседа ведётся с человеком, который находится в инобытии, а здесь нет привычных живым пространственных границ. Кроме того, есть и ещё одна область встречи с мёртвыми – память.
Лирическая героиня указывает: «Я тебя не предам никогда», – вероятно, имея в виду всё ту же энергию памяти-поминания. Причём реальность встречи (у Бога – все живы, как говорится в Библии) для героини бесспорна, у этой встречи даже есть «вещественное выражение»: «Принеси же мне ветку клена / Или просто травинок зеленых, / Как ты прошлой весной приносил».
В этой связи уже понятно, кого имеет в виду Ахматова в стихотворении «Первый дальнобойный в Ленинграде», где обстрел «равнодушно гибель нёс / Ребенку моему». Речь идёт о детях Ленинграда вообще – тех, кто мановением злой силы был положен на алтарь политических игр и сатанинского тщеславия.
В стихотворении «Победителям» Ахматова также обращается к мёртвым, к тем, кто погиб, защищая Родину. Их победа бесспорна: она дала жизнь другим. В тексте есть цитата из Евангелия от Иоанна «Жизнь свою за други своя», актуализирующая степень вселенской любви, которой оказались наделены простые советские воины – «незатейливые парнишки». Напомним исходную фразу из претекста: «Бол-ши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15:13). Все погибшие герои также связаны с лирической героиней родственными узами – все они для неё «внуки, братики, сыновья».
Именно эта «родственность» позволяет Ахматовой говорить от лица миллионов людей (вспомним знаменитое: «Я голос ваш»). Поэтесса чувствует свою ответственность за выражение общих чаяний и всенародных чувств: «Сейчас невозможно себе представить поэзию военных лет без ее “Клятвы” (1941) и “Мужества” (1942). В этих стихотворениях автор выступает от лица громадного социально-исторического сообщества, выражая его волю к борьбе и веру в победу», – отмечает Л. Г. Кихней [2, с. 80].
Таким образом, мы видим, что в стихах о войне у Ахматовой не звучит «громкое имя» Сталина и полководцев, а война понимается как подвиг и тяжелейший ратный труд обычных людей, с которыми лирическая героиня чувствует своё родство. На первом плане – трагедия мирного населения, а не величание сильных мира сего. Произведения исполнены антивоенного пафоса, в них показываются ужасы войны, главным из которых становится смерть невинных и беззащитных – в первую очередь детей. Кроме того, отчётлив мотив скорби, которую испытывают родители, потерявшие детей. Звучит мысль о том, что такую трагедию невозможно забыть, что нельзя предавать память безвинно убиенных.
Следует также отметить, что война для Ахматовой нередко была связана с некими метафизическими сдвигами, происходящими за пределами видимого мира. Великая Отечественная в некоторых текстах рассматривается как борьба между тёмными и светлыми силами. Такое понимание событий 1941–1945 гг. продуцировало и появление эсхатологической семантики. Так, в стихотворении «Птицы смерти в зените стоят…» (1941) присутствует ряд латентных апелляций к откровению Иоанна Богослова. Заглавный образ при таком походе связывается не только с вражеский авиацией, но и птицами-падальщиками, появляющимися в библейском тексте: «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих». (Откр., 19: 17–18). Обратим внимание на фрагмент «летающим по средине неба». Не это ли источник ахматовского образа: «в зените стоят»?
Апокалипсичен и образ голода, так как «вопль» о хлебе восходит в самые небеса, «до седьмого неба» (то есть к жилищу Бога). Да и в целом голод – общее место многих эсхатологических пророчеств, описываемых как в Откровении Иоанна, так и в Евангелиях. Например: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя “смерть”; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом…» (Откр. 6: 8); «и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Мтф. 24: 6–7). Причем Ахматова подчёркивает: «Но безжалостна эта твердь». Бог непреклонен так же, как непреклонен он будет, по пророчествам, и в последние времена.
Разумеется, вне апокалипсической тематики нельзя рассматривать и мотив последнего суда, Судного дня. В стихотворении «In memoriam» (1942), бесспорно, связанном с событиями Ленинградской блокады, есть такие строки: «Рядами стройными проходят ленинградцы, / Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет». В точности то же будет и во время последнего суда, когда живые и мёртвые для определения своей вечной участи в общем строю явятся в долину Иосафата (это место указано в книге Иоиля (Иоил. 3: 2–12)). О том, что Агнец будет «судити со славою живых и мертвых», сказано и в одной из главных христианских молитв – Символе веры. Отметим здесь и то, что упоминание долины Иосафата присутствует и в творчестве Ахматовой – в «Поэме без героя». Таким образом, рассмотрев антивоенные контексты Ахматовой и их различную морфологическую экспликацию в разных стихотворениях, мы можем перейти собственно к рассмотрению произведения «Корея в огне».
Если говорить не о мифолого-поэтической его мотивировке, а об историческом контексте, следует напомнить, что в 1950 году в Корее разразилась кровопролитная гражданская война между двумя противоборствующими силами: одна оказалась ориентирована на Запад (Ли Сын Ман), другая – на коммунистическую идеологию (Ким Ир Сен). Противостояние впоследствии привело к образованию двух и ныне противоборствующих государств: Южной Кореи и КНДР. Активное участие в боевых действиях приняли американцы и другие западные страны (под видом миротворческих сил ООН). Разумеется, усилия капиталистических держав были сконцентрированы на уничтожении армии Ким Ир Сена и объединении Кореи под эгидой прозападных сил. Однако помощь Китая и СССР позволила Северной Корее выстоять в данном противостоянии. Большие потери в войне понесло мирное население, тысячи невинных жертв оказалось на совести «миротворцев».
В стихотворении Ахматовой именно трагедия простого народа стала лейтмотивом. И главную боль и сочувствие у Ахматовой вызывает именно судьба детей: «Там сироты в пустых полях Кореи / В родное небо с ужасом глядят». Обратим внимание на слово сироты : снова, как в блокадных стихах, дети оказываются одинокими перед лицом беды.
Далее речь идёт уже о гибели детей, хотя и не впрямую: «И женщинам корейским не забыть / Своих детей, игравших на поляне». Конечно, матери могут вспоминать то время, когда их чада могли спокойно «играть на поляне» (если акцент в этой фразе сделан именно на игре). Но не менее вероятно, что матери не могут забыть не игры, а самих детей, которых уже нет в живых. Собственно, на второй вариант указывают и следующие строки: говоря о заокеанских пособниках Ли Сын Мана, Ахматова называет их «убийцами и мучителями детей».
Таким образом, мы видим, что в этом антивоенном стихотворении Ахматова прибегает к тем же образам и мотивам, которые были выработаны на материале Великой Отечественной войны. Здесь те же гибнущие дети, та же скорбь лирической героини, которая оплакивает их гибель. Здесь появляются те же матери, которые лишились своих детей. Мотив сиротства является одним из ключевых: не только родители остаются без детей, но и дети оказываются беспризорными и бесприютными. И снова заявлена тема памяти: Ахматова говорит невозможности забыть трагедию.
Следующий мотив, сквозной для ахматовского творчества, однако впрямую не связанный с военной тематикой, – мотив крови, которая не может быть смыта с рук убийц. Этот запоминающийся образ приходит к поэтессе транзитом через творчество Шекспира [3, с. 162–164]. В стихотворении «Привольем пахнет дикий мёд…» есть прозрачная аллюзия на макбетовский претекст: «И шотландская королева / Напрасно с узких ладоней / Стирала красные брызги…». Тот же образ появляется и в рассматриваемом нами стихотворении: «Воды не хватит в Тихом океане, / Чтоб эту кровь невинную отмыть».
В качестве тёмных сил в тексте выведены «заокеанские соседи». В этом сочетании присутствует горькая усмешка Ахматовой: строго говоря, соседи не могут быть «заокеанскими». Для чего же поэтесса использует эту словесную формулу? Вероятно, для того, чтобы показать, что для западных «убийц и мучителей» нет такого места на планете, куда бы не простирались их интересы. Они оказываются «соседями» именно потому, что стремятся встрять в любой мировой конфликт, чтобы извлечь из него геополитическую прибыль. Агрессор описан Ахматовой хлёстко, плакатно, с использованием сниженной лексики: «…А их заокеанские соседи, / Погрязшие в непоправимом бреде, / Еще вопят о правоте своей, – / Убийцы и мучители детей».
Отметим здесь, что в гражданских и поминальных стихах о Великой Отечественной у Ахматовой почти нет образа врага. Например, в цикле «Ветер войны» противник появляется лишь раз, да и то – мельком, когда речь идёт о «пречистом теле / Оскверненной врагами земли». В стихотворении же «Корея в огне» картина меняется: мы как бы воочию сталкиваемся с мучителями, которых Ахматова обвиняет не только в военных преступлениях, но и в лукавстве, в оправдании своих злодеяний гуманистической риторикой.
Завершается произведение на пафосной и жизнеутверждающей ноте: «И как восходят в небесах созвездья, / Как океанский близится прилив, / Так он придет – / великий день возмездья, / Своим лучом Корею озарив». Остановимся на, пожалуй, ключевом слове данного четверостишия – на лексеме возмездье . Возможно, используя её, Ахматова апеллирует к знаменитому блоковскому претексту. Однако важнее другое: днём возмездья называют ещё и эсхатологический конец мира, правда, в русскоязычном переводе Библии чаще встречается сочетание «день гнева», однако типологически эти два сочетания вполне взаимозаменяемы (по поводу дня гнева см., например, книгу пророка Софонии, 1: 15–18). Первые две строки рассматриваемого катрена указывает на почти космогоническую неотвратимость кары, вписывают эту неотвратимость в онтологический регистр.
Кроме того, в данном четверостишии есть и отсылка к Евангелию от Луки (17: 24): «Как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой». В этом стихе есть и указание на «день возмездия», и мотив яркого света, вселенской вспышки: ср.: «лучом Корею озарив» и «молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба». Евангельский текст прямо указывает на Судный день, поэтому и ахматовская аллюзия на «день гнева» и «сверкнувшую молнию» есть система эсхатологических отсылок, которые коррелируют и со всеми ахматовскими представлениями о войне как об апокалиптическом событии. Таким образом, поэтесса здесь не отступает от своей традиции изображений неправедной войны в образах эсхатологической битвы с метафизическими силами зла (которые, конечно, имеют и свою физическую экспликацию).
В целом же произведение трехчастно и вполне соотносимо с мифологической структурой: вначале речь идет о блаженстве (этап 1), потом о нарушении установленного гармоничного порядка тёмными силами (этап 2), наконец, о преодолении бедствия и наказании злодеев (этап 3).
Таким образом, мы видим, что Ахматова обладает «всемирной отзывчивостью», не делая разделения между своим народом и чужим. Такой «интернационализм» был обусловлен в том числе и вниманием поэтессы к Востоку и восточной литературе, к корейскому дискурсу – в частности. Трагедия иностранного государства, вовлеченного в бесчеловечную войну, трагедия мирного населения воспринимается Ахматовой как личная беда. Причём война в своём отечестве и война у соседей описывается в единых интонациях, образах, мотивах, характеризуется общим обличительным пафосом. Таким образом, можно говорить о едином антивоенном мегатексте в творчестве поэтессы, организованном по сходным мотивным «сценариям».
Список литературы "Всемирная отзывчивость" Ахматовой в контексте антивоенной тематики (на материале стихотворения "Корея в огне")
- Ахматова А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2. В 2 кн. Кн. 1. М.: Эллис Лак, 1999. 640 с.
- Кихней Л. Г. Поэзия Анны Ахматовой. Тайны ремесла. М.: Диалог МГУ, 1997. 145 с.
- Кихней Л. Г. Функции шекспировских и дантовских мотивов в поэзии Анны Ахматовой//Русская литература. 2014. № 2. С.156-176.
- Кормилов С. И., Аманова Г. А. Стих русских переводов из корейской поэзии (1950-1980-е годы). М.: Новое время, 2014. 208 с.
- Татаринова Н. «Я голос ваш…»//Звезда Востока. 1989. № 6. С. 163-168.