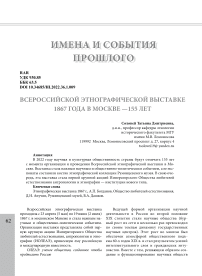Всероссийской этнографической выставке 1867 года в Москве -155 лет
Автор: Соловей Татьяна Дмитриевна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Имена и события прошлого
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В 2022 году научная и культурная общественность страны будут отмечать 155 лет с момента организации и проведения Всероссийской этнографической выставки в Москве. Выставка стала важным научным и общественно-политическим событием, а ее экспонаты составили костяк этнографической коллекции Румянцевского музея. В свою очередь, эта выставка стала первой крупной акцией Императорского Общества любителей естествознания антропологии и этнографии - институции нового типа.
Этнографическая выставка 1867 г, а.п. богданов, общество любителей естествознания, д.н. анучин, румянцевский музей, в.а. дашков
Короткий адрес: https://sciup.org/170194527
IDR: 170194527 | УДК: 930.85 | DOI: 10.34685/HI.2022.36.1.009
Текст научной статьи Всероссийской этнографической выставке 1867 года в Москве -155 лет
Всероссийская этнографическая выставка проходила с 23 апреля (5 мая) по 19 июня (2 июля) 1867 г. в московском Манеже и стала важным научным и общественно-политическим событием. Организация выставки представляла собой первую крупную акцию Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ИОЛЕАЭ), принесшую ему российскую и международную известность.
ОЛЕАЭ: ученое общество, созданное чтобы продвигать Россию
Ведущей формой организации научной деятельности в России во второй половине XIX столетия стали научные общества (бурный рост их сети в несколько раз превосходил по своим темпам динамику государственных научных центров). Этот рост во многом был обеспечен атмосферой общественного подъема 60-х годов XIX в. и стал результатом усилий интеллектуального слоя и гражданских энтузиастов. Вместе с тем, решающим образом создание и функционирование научных обществ оказалось возможным благодаря политике государства. Университетский устав 1863 г. предоставил право утверждать уставы «ученых обществ» при университетах министру народного просвещения (вместо императора), что упрощало и ускоряло процедуру. Правительство стимулировало общественный сектор науки, поскольку это, во-первых позволяло переложить заботы о процветании науки на плечи общественности, а во-вторых, как казалось поначалу, отвлекало интеллигенцию от политической активности.
Меняющийся политико-идеологический и культурно-ценностный ландшафт предопределил характер и специфику создававшихся научных обществ, ставших антитезой старым институциям (Русскому минералогическому обществу в Петербурге, Обществу испытателей природы в Москве), которые подвергались жесткой критике за научный универсализм, замкнутость, отрыв от практики и отсутствие интереса к пропаганде знаний.
Авторов идеи создания ОЛЕАЭ профессора зоологии А.П. Богданова (1834–1896) и профессора геологии Г.Е. Щуровского (1803–1884) разделяла 30-летняя разница в возрасте. Объединяли общие культурно-ценностные презумпции — приверженность эволюционной теории и оптимистическая вера в возможность экспансии эволюционизма в социальную сферу. Кристаллизация общества произошла в традиционной для русской интеллигенции «кружковой» манере.
В чем состояла цель этого Общества?
Давая много лет спустя сравнительную характеристику развития естествознания в России и Западной Европе, профессор Д.Н. Анучин отмечал несравненно более высокую «прочность научного дела» на Западе. Организационная основа естествознания (и науки в широком смысле) на Западе включала следующие компоненты: «светил науки», которые «создают системы, школы, направления, обогащают науку новыми открытиями, теориями, ставят ей новые задачи»; «последователей учителей» или «рядовых работников» — они «разрабатывают частные вопросы, обогащают науку новыми фактами, наблюдениями и опытами»; наконец, широкий круг «любителей», свидетельствующий интерес общества к науке. При такой постановке дела даже уход одного из «светил» не останавливал поступательного развития науки1. Не то было в России, где смерть талантливого одиночки нередко пресекала научное направление. Тем более в ней отсутствовало «любительство» как массовое явление. В образованном русском обществе было так мало лиц, интересовавшихся естествознанием, что существовавшие еще со времен Александра I Минералогическое общество в Петербурге и Общество испытателей природы в Москве «находили невозможным и бесполезным издавать свои труды на русском языке»2.
Предполагалось, что ИОЛЕАЭ сможет привить отечественному обществу интерес к естествознанию и обеспечит популяризацию науки. «Распространение науки в массе публики», «подготовка новых деятелей для нее», «изыскание средств, могущих содействовать распространению естествоведения в России»3, — так формулировались цели нового учреждения.
Конечно, не стоит считать ИОЛЕАЭ историческим предшественником советского общества «Знание», исследовательское направление в его деятельности не только присутствовало, но и было ярко выражено. Другое дело, что научная стратегия организации отличалась принципиальной новизной, носила не элитарный , как у старых российских научных обществ, а массовый характер, что соответствовало общеевропейской (и захватившей, хотя с запозданием и в меньших масштабах, Россию) тенденции массовизации общества.
Используя грубую общесоциологическую редукцию, ИОЛЕАЭ можно представить как реакцию научно-образовательной элиты на трансформацию социальных структур пореформенной России. И суть этого ответа состояла в формировании новой, характерной для Модерна, легитимации науки через понятия общественной пользы и служения прогрессу. В этом смысле популяризаторская и просветитель- ская деятельность Общества служила не только естественнонаучному образованию общества, но и налаживанию обратной связи с ним, выяснению его социального запроса.
Этому должны были способствовать открытый характер общества (акцентировалось слово «любителей» в его названии), проведение популяризаторско-просветительских мероприятий (устройство Этнографической, Политехнической, Антропологической выставок и учреждение соответствующих музеев), публикация материалов общества на русском языке (Богданов настаивал на том, чтобы протоколы ИОЛЕАЭ велись на русском языке и на нем же публиковались его «Известия»). В конечном счете, повышение социального престижа естествознания должно было обеспечить приток молодежи на соответствующие отделения в университетах и конвертироваться в финансовые пожертвования со стороны частных лиц.
Обширные цели ОЛЕАЭ за его более чем полувековой период деятельности были выполнены частично. Хотя интерес к естествознанию в русском обществе в целом возрос, свидетельством чему может служить относительно регулярное проведение съездов естествоиспытателей и врачей (первый состоялся в 1867 г.), масштабы любительства оказались не очень значительными.
Вероятно, трудно было ожидать иного результата в стране, значительная часть населения которой во второй половине XIX века оставалась неграмотной. Да и общественно-политический контекст последней трети столетия не очень благоприятствовал развитию интереса к естествознанию. Сам Анучин характеризовал 70-е годы XIX в. как время «увлечения классицизмом в официальных сферах и социальными науками — в обществе»4.
Парадоксальность ситуации состояла в том, что повышенный интерес к общественным наукам в конце 1860-х — начале 1880-х годов был во многом спровоцирован предшествующей популярностью естествознания — маятник массового интереса пошел в обратном направлении. Но более важно, что в социальной жизни, в человеческой истории пытались обнаружить «желез- ные» законы аналогичные естественнонаучным закономерностям в природе. Во всплеске общественного внимания к социальным наукам присутствовала и очевидная политико-идеологическая подоплека: образованные отечественные слои, особенно студенчество, все более заметно связывали прогресс России не с развитием науки и техники, а с радикальным обновлением ее социального и политического устройства, что вызывало естественную реакцию власти в виде ужесточения государственного контроля над высшим образованием и идеологией.
Отмеченные черты Общества любителей: организация широких выставочных инициатив, популяризация научных знаний и открытость составляли его сильные стороны. Но эти же черты делали Общество уязвимым для критики ученых «мандаринов». Вот содержательная выдержка из воспоминаний одного из старейших членов ОЛЕАЭ И.А. Каблукова: «Все основатели (Общества. — Т.С.) были очень молодые, почти юноши, и между ними несколько студентов: ни одного из них не считали специалистом и называли не любителями, а губителями естествознания. Этим людям приписывали желание фигурировать в области какой-то несуществующей по тогдашним воззрениям русской науки, потому что им не по силам была общечеловеческая европейская наука, считающаяся у нас издавна привилегиею иностранцев, почти исключительно. Мотивы основания нового общества выставлялись самые антипатичные: желание нанести вред, через разделение работающих, уже существующим ученым центрам в Москве, собрать вокруг себя партию вовсе не с научными, а с житейско-практическими целями и устроить центр влияния на студентов»5.
Идеологически сомнительным мог показаться круг научных дисциплин, входивших в орбиту деятельности ОЛЕАЭ, хотя прямой их запрет в меняющемся культурно-идеологическом контексте уже был невозможен. В 1860 г. шеф III отделения князь В.А. Долгоруков представил императору записку о воскресных школах. Им ставился в вину факт преподавания предметов, выходивших за предписанные рамки (богословие, грамота, письмо и счет), — естествознания, истории, географии, этнографии, политэкономии, иностранных языков6.
В этой накалявшейся атмосфере ОЛЕАЭ оказалось мишенью нападок, не лишенных идеологического подтекста. «Губителей естествознания» (так называли Общество его недоброжелатели) обвиняли не только в недостойном статуса Императорского Общества дешевом популизме и неэффективной трате немногочисленных кадровых и материальных ресурсов отечественного естествознания, но и в разлагающем влиянии на студенчество. Эти политические инвективы, беспочвенные в отношении ОЛЕАЭ, точно улавливали тенденцию, набиравшую силу в части образованных слоев.
Дарвинизм (а в более широком плане — естествознание) вызвал в России не только интеллектуальную, но и мощную идейно-психологическую динамику. Дарвиновская эволюционистская теория, поставив человека (в многочисленных интерпретациях последователей и истолкователей Дарвина) на одну ступень с животными, отвергая креационизм и божественную картину мира, подрывала религиозную санкцию традиционного политического и социального порядка и влекла за собой драматические социальные выводы. Отказ от идеи нуминозного происхождения власти (царь как помазанник божий) в принципе открывал возможность для претензий на власть любой социальной и/или политической группе.
Предложивший радикально новый взгляд на природу человека дарвинизм спровоцировал подлинную революцию в морально-нравственной сфере. Если человек есть говорящая обезьяна, а не образ и подобие Божие, то к людям и относиться надо, как к животным, — такова была крайняя позиция в рассуждениях восторженных русских неофитов дарвинизма. Под обаяние этой искусительной логики, как известно, подпал недоучившийся студент Родион Раскольников, герой одного из самых знаменитых романов Ф.М. Достоевского. Трагический талант писателя запечатлел новый социально-нравственный тип русской молодежи в момент его зарождения.
Университетская профессура с ужасом отмечала, что студенты воспринимают теорию Дарвина как истину в последней инстанции и непосредственное руководство к действию.
Но, даже рассматривая высшие учебные заведения как рассадник опасных политических и идеологических влияний, правительство не могло обойтись без пользующихся интеллектуальной свободой университетов. Вызов модернизации, с которым Россия напрямую столкнулась после катастрофической Крымской войны, требовал, в частности, кардинального расширения масштабов подготовки специалистов.
Вряд ли можно даже в незначительной степени приписывать ОЛЕАЭ какие-то политические цели и ответственность за радикализацию российских образованных классов, поскольку его отцы-основатели, ратуя за прогресс естествознания, никогда не занимали радикальных политических позиций. Но система высшего образования объективно формировала не только профессиональную компетенцию, но также идеалы — служение прогрессу и национальному освобождению, и те качества — интеллектуальную независимость и критический взгляд на действительность, которые выглядели потенциально опасными для политического и социального порядка в империи.
Но все это в перспективе, а в 1860-х годах молодое Общество переживало моральный подъем и всплеск общественно-научной активности. Популяризаторская выставочная активность ОЛЕАЭ дала мощный импульс развитию русской этнографии.
Этнографическая выставка 1867 г. как микрокосм многоплеменности и поликультурности России
Концепцию выставки разработал антрополог А.П. Богданов, который опирался на опыт этнографического и антропологического отдела Всемирной выставки в Лондоне (1862). Частная/ общественная инициатива группы любителей могла быть реализована только с санкции государя и при правительственном содействии. Программа выставки была утверждена императором Александром II 15(28) июля 1865 г.
В конце 1864 г. ОЛЕАЭ учредило особый комитет выставки. Его возглавил В.А. Дашков (меценат, давший взаймы деньги на устройство выставки). Члены комитета (А.П. Богданов, Г.Е. Щуровский, Д.Д. Сонцов, Н.Г. Керцел-ли, Н.К. Зенгер, В.А. Соболев, Н. Березницкий,
Н.А. Попов, А.П. Федченко) предполагали собрать материал для нее путем посылки экспедиций в разные области Российской империи. Поддержка инициативы ОЛЕАЭ со стороны правительственных инстанций и местных администраций — губернских статистических комитетов, сделала организацию экспедиций излишней.
Выставка стала важным научным и общественно-политическим событием. Ее почетным председателем выступил великий князь Владимир Александрович. 24 апреля (6 мая) выставку посетил император Александр II с супругой и сыном. В отчете о посещении выставки императором сообщалось, что он остался в целом доволен великорусскими манекенами, заметив лишь, что лица женщин могли бы быть красивее, — «если бы сделать строгий выбор»7. Также выставка сопровождалась официальными торжествами и обедами, члены императорской семьи и политики осуществили благотворительные взносы. «Щедрые дары» императрицы, великих князей Владимира Александровича и Алексея Александровича «были первыми, положившими твердое начало нашим коллекциям»8.
Идеологический аспект выставки составила репрезентация Российской империи как воплощения многоплеменности и поликонфессио-нальности и одновременно русского/славянского начала как организующего элемента имперского многообразия.
К выставке был приурочен созыв Славянского съезда, который должен был засвидетельствовать покровительственную роль России в отношении зарубежного славянства. Последнее было негативно воспринято за рубежом, в частности, австрийская пресса назвала выставку «политической демонстрацией», а Москву — «Меккой панславизма»9; звучали угрозы австрийских правительственных кругов. Тем не менее, на выставке присутствовал 81 иностранец: 63 — славяне Австрийской империи,
12 сербов, 2 черногорца, 2 лужицких серба, 1 болгарин и 1 поляк из Пруссии.
Научная концепция выставки была разработана учеными Московского университета. В ее основе лежал кардинально новый — универсалистский — подход, видевший цель этнографии в изучении не только «диких», «туземных», «первобытных» народов (инерционный след такого рода представлений в российской этнографии сохранялся вплоть до начала XX в.), но народов вообще, включая те, которые в прогрессистской (иными словами колониалистской) классификации занимали место «высокоразвитых», «передовых». Указанный подход впервые сформулировал Н.И. Надеждин в докладе «Об этнографическом изучении народности русской»10 на первом годовом заседании ИРГО в ноябре 1846 г. Репрезентация великороссов и других славянских народов (в том числе, зарубежных славян) не могла основываться на презумпции их «дикости» и культурной неполноценности. Не менее важно, что изучение и описание народов носило комплексный характер, предполагая показ всех сторон жизнедеятельности — от «телесной» стороны человеческой природы до особенностей культурно-бытовых и хозяйственных.
Организаторам удалось собрать материал со всех концов империи — из многих русских, белорусских, украинских губерний, регионов Поволжья, Прибалтики, Сибири, в меньшей степени Кавказа. Народы Средней Азии, кроме казахов, практически не были представлены. Зато были широко показаны почти все западные и южные славяне. Основная масса экспонатов была объединена в группы — своеобразные мизансцены, — где манекены, одетые в национальные костюмы, располагались в обстановке их быта. Другая часть экспонатов была выставлена в систематическом порядке. Костяк экспозиции составили этнографические материалы (288 манекенов в национальных костюмах, около 450 комплектов одежды, до 1200 разных предметов быта, орудий, моделей и др.), а также более 600 фотографий, около 300 археологических находок, 600 черепов представителей разных народов. Манекены создавались скульпторами Н.А. Рамазановым и С.И. Ивановым, художника- ми художниками И.Л. Севрюгиным, Я.М. Яковлевым, С.П. Закревским, А.М. Любимовым.
Антропологический аспект выставки потребовал тщательной исследовательской работы и изготовления манекенов, не просто наряженных в этнические костюмы, но обладающих выраженными физиогномическими отличиями, характеризующими расовые/этнические типы. Методом фиксации физических отличий А.П. Богданов и его коллеги избрали передовую на тот момент технологию фотографии. Серьезную научную и морально-этическую проблему составила репрезентация русского антропологического типа. Многочисленные отзывы посетителей содержали разочарование отсутствием «настоящих великорусских типов»11. «Нейтральный» способ фиксации русскости не удовлетворял потребности той части образованного общества, которая видела в русских государствообразующую нацию (М.Н. Каткова). Как не удовлетворял и тех (например, туркестанского генерал-губернатора К.П. фон Кауфмана), кто воспринимал выставку в колониальном духе, рассматривая в качестве потенциальных объектов выставочной экспозиции лишь имперских инородцев.
Научное сообщество небезуспешно пыталось придать этнографической выставке просветительский и популяризаторский характер. На ней читались публичные лекции, был издан добротный указатель — фактически пособие-справочник по этнографии народов России и зарубежных славянских народов12. За два месяца выставку посетило свыше 90 тыс. человек, что являлось в те времена невиданной популярностью. Были оживлённые отклики в печати.
Выставка имела неоднозначные последствия для российской этнографии. С одной стороны, она создала ОЛЕАЭ научное имя и авторитет и способствовала широкой популяризации этнографии. С другой стороны, обнаружила угрозу политической ангажированности этнографиче-ского/антропологического знания, демонстрируя критическую зависимость науки от государ-ства/власти.
После закрытия выставки ее материалы были переданы в Румянцевский музей, составив его особую часть — «Дашковский этнографический музей»13.
Список литературы Всероссийской этнографической выставке 1867 года в Москве -155 лет
- Анучин Д.Н. Русская наука и съезды естествоиспытателей. (Речь председателя Распорядительного комитета XII съезда естествоиспытателей и врачей 28 декабря 1909 г.). Отдельный оттиск. М., 1910.
- Богданов В.В. Полвека жизни ОЛЕАЭ. 1863-1913. М., 1915.
- Всероссийская этнографическая выставка и Славянский съезд в мае 1867 года. М., 1867. 2017 http://vseslav.su/wp-content/uploads/2017/05/ sezd-1867.pdf.
- Всероссийская этнографическая выставка, устроенная Императорским Обществом любителей естествознания, состоящим при Московском университете в 1867 году. М., 1867.
- Найт Н. Империя напоказ: Всероссийская этнографическая выставка 1867 года // Новое литературное обозрение (НЛО). 2001. № 5.
- Речь почетного члена Императорского ОЛЕАЭ И.А. Каблукова // 50-летие Императорского ОЛЕАЭ. 1863-1913. Торжественное заседание 15 октября 1913 г., произнесенные на нем речи, полученные к этому дню приветствия и происходившее одновременно чествование 70-летия жизни президента общества Д.Н. Анучина. Составил секретарь общества В.В. Богданов. М., 1915.
- Соловей Т.Д. Власть и наука в России. Очерки университетской этнографии в дисциплинарном контексте (XIX - начало XXI вв.). М.: Прометей, 2004. С. 31-42.
- Токарев С.А. История русской этнографии. (Дооктябрьский период). М., 1966.
- Указатель русской этнографической выставки, устроенной Императорским Обществом любителей естествознания в 1867году. М., 1867.
- Эймонтова Р.Г. Идеи просвещения в обновляющейся России (50-60-е гг. XIX в.). М., 1998.