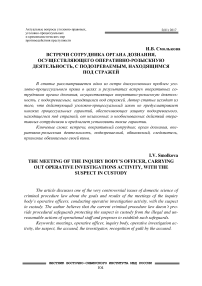Встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым, находящимся под стражей
Автор: Смолькова И.В.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Статья в выпуске: 2 (81), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается одна из остро дискуссионных проблем уголовно-процессуального права о целях и результатах встреч оперативных сотрудников органа дознания, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым, находящимся под стражей. Автор статьи исходит из того, что действующий уголовно-процессуальный закон не предусматривает никаких процессуальных гарантий, обеспечивающих защиту подозреваемого, находящегося под стражей, от незаконных и необоснованных действий оперативных сотрудников и предлагает установить такие гарантии.
Встречи, оперативный сотрудник, орган дознания, оперативно-розыскная деятельность, подозреваемый, обвиняемый, следователь, признание обвиняемым своей вины
Короткий адрес: https://sciup.org/14335804
IDR: 14335804
Текст научной статьи Встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым, находящимся под стражей
Предписание ч. 2 ст. 95 УПК РФ недостаточно продумано, в высшей степени неопределенно, не вписывается в контекст уголовного судопроизводства и ставит лишь вопросы, ответы на которые остаются «за кадром»
В.И. Зажицкий
В ч. 2 ст. 95 УПК РФ установлено, что «в случае необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий допускаются встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, с подозреваемым, с письменного разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда, в производстве которых находится уголовное дело». Такая необходимость, по мнению некоторых авторов, определяется «задачами выявления, пресечения, раскрытия преступлений, по которым лицо не является подозреваемым» [17. С. 432].
С точки зрения В.И. Зажицко-го, требования ч. 2 ст. 95 УПК РФ также распространяются и на встречи оперативных сотрудников с обвиняемыми, содержащимися под стражей [3. С. 34]. Необходимо, однако, отметить, что это мнение автора расходится с законом, ибо в ст. 95 УПК РФ речь идет только о подозреваемом, содержащемся под стражей. Об этом свидетельствует как название ст. 95 УПК РФ - «Порядок содержания подозреваемых под стражей», так и ее нахождение в главе 12 УПК РФ «Задержание подозреваемого». Одновременно следует заметить, что в ч. 2 ст. 95 УПК РФ речь идет о подозреваемом, слова «содержащийся под стражей» в ней по какой-то неясной причине отсутствуют, из этого вполне можно сделать вывод о том, что названные встречи могут производиться с любым подозреваемым. Думается, что это не так, исходя из названия и содержания ст. 95 УПК РФ.
Следует обратить особое внимание на то, что законодатель использует термин «встречи», который В.И. Зажицкий иронично, но точно назвал «лирическим и явно неподходящим для контекста ст. 95 УПК РФ» [3. С. 34].
Из текста ч. 2 ст. 95 УПК РФ следует, что «встреч» может быть несколько. Естественно в этой связи возникают вопросы: «Сколько может быть проведено таких встреч и для чего они проводятся? Почему необходимо несколько встреч? Какие цели они преследуют?». В.И. Зажицкий полагает, что ключевым моментом в данном случае является определение, какие конкретно оперативно-розыскные ме- роприятия (далее - ОРМ), предусмотренные ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - ФЗ «Об ОРД») [8], могут проводиться с подозреваемым. По его мнению, в рамках таких встреч допустимо проводить только одно ОРМ - опрос [3. С. 37]. И с этим мнением следует согласиться, поскольку никакие другие ОРМ в данном случае проводиться в принципе не могут, тем более не могут проводиться допросы и другие следственные действия.
В свое время А.Г. Лекарь и А.В. Гребельский обосновывали встречи оперативных сотрудников с подозреваемым в период предварительного следствия необходимостью проведения «разведывательных опросов подозреваемых (обвиняемых), особенно тех, которые длительное время общались с другими правонарушителями и могли получать информацию о замыслах, подготавливаемых или совершенных преступлениях лицами, не связанными с подозреваемыми (обвиняемыми) по расследуемому делу» [7. С. 19].
В процессе производства предварительного расследования может возникнуть необходимость проведения ОРМ в целях получения информации об очевидцах преступления, месте нахождения похищенного имущества или имущества, подлежащего конфискации и т. п. В таких случаях следователь в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ уполномочен давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении ОРМ, однако они не имеют отношения к предписаниям ч. 2 ст. 95 УПК РФ.
Представляется, что для получения разрешения следователя на «встречи» с подозреваемым, находящимся под стражей, оперативный сотрудник должен обосновать необходимость проведения ОРМ в соответствии с ФЗ «Об ОРД», либо «встречаться» с подозреваемым он может, лишь выполняя поручение следователя.
В литературе по вопросу о законности встреч оперативных сотрудников с подозреваемым, находящимся под стражей, высказаны две разные позиции. Первая позиция заключается в том, что необходимо категорически запретить мероприятия оперативно-розыскного характера, проводимые с задержанным подозреваемым, поскольку в таких случаях имеет место ущемление прав последнего. В частности, с точки зрения И.Л. Петрухина, встречи оперативного сотрудника с подозреваемым могут преследовать только две цели: 1) вербовку подозреваемого или дачу ему инструкций о проведении оперативной работы с заключенными или получе- ние сведений о результатах этой работы; 2) склонение подозреваемого к признанию вины и выдаче соучастников путем проведения бесед и других действий не процессуального характера [13. С. 105].
Поддерживая эту позицию, Н.Н. Ковтун замечает, что «сотрудники оперативных аппаратов и служб могут поблагодарить законодателя за предоставленные им дополнительные возможности для получения признательных показаний от лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений» [5. С. 46]. С точки зрения В.Н. Перекре-стова, необходимо вообще упразднить ч. 2 ст. 95 УПК РФ, поскольку оперативные сотрудники проводят с подозреваемыми (обвиняемыми) незаконные действия [12. С. 162].
Вторая позиция заключается в том, что эти встречи необходимы, поскольку направлены на раскрытие других преступлений, о которых подозреваемый может быть осведомлен. Так, с точки зрения В.И. Зажицкого, встречи оперативного сотрудника с задержанным подозреваемым направлены на получение от последнего сведений, имеющих значение для успешного осуществления оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности соответствующих правоохранительных органов и повышения эффективности их деятельности, а не для расследуемого уголовного дела. Он полагает, что предписание ч. 2 ст. 95 УПК РФ вообще не имело бы смысла, если допустить иное. По его мнению, «склонение подозреваемого к признанию вины» представляет собой важнейший элемент функции уголовного преследования, который включает в себя принятие предусмотренных ч. 2 ст. 21 УПК РФ мер по изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления, но эту функцию должен осуществлять следователь, а не оперативный сотрудник [3. С. 34]. С этим стоит согласиться, но в данном случае вызывают возражение слова «склонение подозреваемого к признанию вины»: ни оперативный сотрудник, ни следователь не могут и не должны «склонять» к признанию вины. Убеждать, советовать, разъяснять - да, но не склонять.
Вместе с тем В.И. Зажицкий высказывает вполне обоснованное сомнение относительно простоты подхода законодателя к вопросу о привлечении отдельных лиц с их согласия к сотрудничеству на конфиденциальной основе, поскольку эта сфера ОРД составляет государственную тайну и «втискивать» ее в рамки уголовно-процессуальных предписаний недопустимо. С его точки зрения, достаточно нелепо выглядела бы ситуация, при которой следователь в своем письменном разрешении на проведение встреч оперативного сотрудника с подозреваемым указывал бы на то, что такие встречи необходимы в целях вербовки последнего. Представляется, что это объяснение также выглядит достаточно простым. Одновременно В.И. Зажицкий замечает, что в средствах массовой информации неоднократно освещались трагические результаты таких «встреч» и «бесед» [3. С. 35, 36].
Е.Л. Забарчук полагает, что встречи и беседы возможны в рамках проведения ОРМ, направленных на «побуждение подозреваемого к деятельному раскаянию» [2. С. 47]. Возникает в этой связи закономерный вопрос: является ли оперативный сотрудник психологом или обладает в отличие от следователя особым даром убеждения, чтобы «побудить» подозреваемого к раскаянию, да и входит ли это в его компетенцию? Тем более, что целью встреч оперативного сотрудника с подозреваемым является получение от него информации по другим преступлениям, не связанным с преступлением, в котором последний подозревается.
Совершенно очевидно, что такие «встречи», по мнению Е.Л. За-барчука, нужны, чтобы склонить подозреваемого к признанию вины. Представляется, что это недопустимо. Нельзя подменять официальный допрос подозреваемого какими-то странными «встречами» с лицом, не имеющим соответствующих процес- суальных полномочий. Из содержания ч. 2 ст. 95 УПК РФ со всей очевидностью вытекает, что встреча -это не допрос подозреваемого, она также не заменяет его допрос и не направлена на получение доказательств в виде признания им своей вины. После принятия дела к производству следователь не вправе поручать допросы подозреваемого кому бы то ни было, а беседа оперативного сотрудника с подозреваемым, как справедливо заметил И.Л. Петрухин, это по существу «завуалированный допрос» [6. С. 168].
Конституционный Суд РФ в своих решениях неоднократно обращал внимание на недопустимость подмены допроса обвиняемого, проводимого с соблюдением процессуальной формы, непроцессуальными мероприятиями (беседами, опросами в условиях следственного изолятора) [9; 10].
Представляется, что беседы с задержанными подозреваемыми, проводимые оперативными сотрудниками, хотя и с согласия следователя, недопустимы по следующим соображениям: 1) в данном случае нарушается конституционное право на защиту задержанного (арестованного) подозреваемого; 2) оперативный сотрудник, не связанный с требованиями УПК, может превысить свои полномочия, что на практике постоянно происходит.
Б.Т. Безлепкин в этой связи вполне обоснованно замечает, что обе стороны (оперативный сотрудник и подозреваемый) не связаны взаимными правами и обязанностями, как это имеет место в следственной деятельности, где каждый шаг регламентирован процессуальными правилами. С точки зрения данного автора, одним из существенных изъятий конструкции ч. 2 ст. 95 УПК РФ является идея контроля со стороны дознавателя, следователя, прокурора и особенно суда за оперативно-розыскной деятельностью спецслужб, если она «как-то касается подозреваемого по уголовному делу, находящемуся в их производстве» [1. С. 162]. Такая идея представляется теоретически несостоятельной. Невозможно уголовно-процессуальными средствами контролировать деятельность негласную, не основанную на уголовно-процессуальном законе.
Часть 2 ст. 95 УПК РФ порождает множество других вопросов: в частности, может ли подозреваемый отказаться от общения с оперативным сотрудником; должно ли учитываться его мнение при желании оперативных сотрудников провести с ним встречу; должно ли быть обеспечено участие защитника при этой встрече; распространяются ли на подозреваемого при таких встречах процессуальные гарантии и чем они обеспечиваются; какие права при этих встречах имеет подозреваемый; какие обязанности возлагаются на него в этих случаях и др.
На практике отказ в допуске защитника к встречам, проводимым с подозреваемым, оперативными сотрудниками мотивируется конфиденциальным характером ОРМ.
В литературе обосновываются различные гарантии, направленные на обеспечение интересов подозреваемого и исключение какого-либо принудительного воздействия на него при встречах с оперативными сотрудниками в порядке ч. 2 ст. 95 УПК РФ. Так, С.А. Касаткина предлагает при проведении таких встреч обеспечивать обязательное участие защитника [4. С. 118]. С этим предложением следует согласиться, ибо, хотя признание, сделанное подозреваемым оперативному сотруднику, доказательством не является, однако оно может повлечь ряд негативных последствий для него, а именно: полученное внепроцессуальное признание подозреваемым своей вины может использоваться в дальнейшем следователем для оказания давления на обвиняемого с целью добиться подтверждения и процессуального закрепления признания вины. Кроме того, сторона обвинения, получая важную ориентирующую информацию, одновременно получает тактическое преимущество.
Совершенно очевидно, что подозреваемый может воспользо- ваться правом не свидетельствовать против самого себя, отказаться от таких бесед, а также потребовать присутствия адвоката во время такой встречи. Отказ подозреваемого от таких встреч не должен влечь для него каких-либо негативных последствий. При наличии ходатайства оперативного сотрудника о встрече с подозреваемым следователь должен уведомить об этом подозреваемого. Участие подозреваемого во встречах должно быть исключительно на добровольной основе. Разумеется, должны быть исключены принуждение, угрозы, шантаж и физическое воздействие на подозреваемого. Совершенно очевидно, что такие «встречи» за пределами следственного изолятора вообще недопустимы. Более того без разрешения следователя никто из оперативных сотрудников не должен иметь право на контакты с подозреваемым, в том числе и в оперативных целях.
Некоторые авторы высказывают суждение о том, что «суд может дать разрешение на встречу оперативного работника с подсудимым по делу, принятому судом к своему производству, и, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Такой подсудимый может быть подозреваемым по другому делу, например, при совершении преступления в следственном изолято- ре» [16. С. 268-269]. Данные рассуждения вытекают из положений ч. 2 ст. 95 УПК РФ, предоставляющей полномочия суду, в производстве которого находится уголовное дело, давать письменное разрешение на проведение встреч с подозреваемым сотрудника органа дознания, осуществляющего ОРД. Вообще, думается, данное предписание закона непонятно, кроме того, оно противоречит сущности судебной деятельности, ибо суд не должен быть вовлечен в какие-либо оперативно-розыскные отношения. Если уголовное дело передано в суд, то в суде нет и не может быть такого участника уголовного судопроизводства, как подозреваемый. Если же подсудимый совершает преступление в следственном изоляторе, то суд также не имеет к нему никакого отношения, по данному факту возбуждается уголовное дело и лицо, признанное подозреваемым, находится в ведении следователя.
Верховный Суд РФ, признавая недопустимыми доказательствами показания свидетелей-сотрудников милиции, которые сообщили суду о признании, сделанном им задержанным лицом, по одному из уголовных дел отметил, что «так называемые беседы с задержанным являлись ничем иным, как незаконным допросом, который проводился в отсутствие адвоката, без разъяснения задержанному положений ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации» [11. С. 4].
Конкретные ориентиры в рассматриваемом вопросе установлены в Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме (утвержден Резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г., далее – «Свод принципов защиты») [15. С. 216-217]. Так, в этом документе предусмотрены следующие предписания: «1. Запрещается злоупотреблять положением задержанного или находящегося в заключении лица с целью принуждения его к признанию, к какому-либо иному изобличению самого себя или даче показаний против любого другого лица.
-
2. Ни одно задержанное лицо не должно подвергаться во время допроса насилию, угрозам или таким методам дознания, которые нарушают его способность принимать решения или выносить суждения» (принцип 21).
Небезынтересна в этом отношении и практика Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Так, в решении от 1 апреля 2010 г. по делу «Павленко против Российской Федерации» ЕСПЧ признал нарушением права на справедливое судебное разбирательство практику, когда с задержанными лицами проводятся «беседы» со- трудниками полиции для получения признательных показаний в отсутствие адвоката, одновременно отметив, что государство-ответчик даже и «не пыталось разъяснить природу подобных “бесед”, чтобы устранить сомнения в их надлежащем характере» [14. С. 99].
Следует поддержать предложение В.И. Зажицкого о том, что в ч. 2 ст. 95 УПК РФ необходимо внести изменения, в соответствии с которыми оперативный сотрудник может проводить только опрос подозреваемого с письменного разрешения следователя (дознавателя) в целях получения сведений, способствующих решению задач оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности. Кроме того, автор справедливо замечает, что встречи оперативного сотрудника с подозреваемым ни в чем не должны подменять собой функции следователя, оперативный сотрудник в ходе проведения опроса подозреваемого не вправе выяснять обстоятельства, составляющие предмет доказывания, тем более, он не должен участвовать в изобличении подозреваемого в совершении преступления, т. е. в осуществлении функции уголовного преследования. На этом основании В.И. Зажицкий предлагает включить в ч. 2 ст. 95 УПК РФ следующее положение: «оперативному сотруднику, осуществляющему опрос подозреваемого, запрещается выяснять вопросы, входящие в компетенцию следователя (получать сведения об обстоятельствах, составляющих предмет доказывания, изобличать лицо в совершении преступления)» [3. С. 35, 37]. Кроме того, нам представляется, что в ч. 2 ст. 95 УПК РФ необходимо включить и другие положения, а именно: «1. Задержанный подозреваемый и подозреваемый, находящийся под стражей, вправе отказаться от встречи с оперативным сотрудником. Отказ от встречи с оперативным сотрудником не влечет для подозреваемого негативных последствий. 2. Согласие на встречу с оперативным сотрудником задержанный подозреваемый и подозреваемый, находящийся под стражей, должен дать в письменном виде в присутствии защитника».
Список литературы Встречи сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с подозреваемым, находящимся под стражей
- Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 10-е изд. перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. 704 с.
- Забарчук Е.Л. Принятие решения о деятельном раскаянии лицом, привлекаемом к уголовной ответственности//Журнал российского права. 2008. № 8. С. 42-48.
- Зажицкий В.И. Встречи оперативного сотрудника с подозреваемым: какими они должны быть?//Российская юстиция. 2015. № 1. С. 34-36.
- Касаткина С.А. Признание вины. М.: Проспект, 2013. 224 с.
- Ковтун Н.Н. Задержание подозреваемого: новые грани старых проблем//Юридическая литература. 2010. № 10. С. 44-48.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный)/отв. ред. И.Л. Петрухин. М.: ТК Велби, Проспект, 2007. 720 с.
- Лекарь А.Г., Гребельский А.В. Разведывательный опрос. М.: Изд-во ВШ МООП РСФСР, 1962. 79 с.
- Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // СЗРФ. 1995. № 33. Ст. 3349 (с изм., внесенными федеральными законами от 18 июля 1997 г. № 101-ФЗ; от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ; от 5 янв. 1999 г. № 6-ФЗ; от 30 дек. 1999 г. № 225-ФЗ; от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ; от 10 янв. 2003 г. № 15-ФЗ; от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ; от 29 июня 2004 г. № 58-ФЗ; от 22 авг. 2004 г. № 122-ФЗ; от 2 дек. 2005 г. № 150-ФЗ; от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ, № 214-ФЗ; от 29 апр. 2008 г. № 58-ФЗ; от 29 нояб. 2008 г. № 207-ФЗ; от 22 дек. 2008 г. № 272-ФЗ; от 25 дек. 2008 г. № 280-ФЗ; от 26 дек. 2008 г. № 293-ФЗ; от 28 дек. 2010 г. № 404-ФЗ; от 21 нояб. 2011 г. № 329-ФЗ; от 8 дек. 2011 г. № 424-ФЗ; от 10 июля 2012 г. № 114-ФЗ; от 29 нояб. 2012 г. № 207-ФЗ; от 5 апр. 2013 г. № 53-ФЗ).
- Об отказе в принятии жалобы гражданина Барковского Константина Олеговича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 127 УПК РСФСР, пунктом 1 части первой статьи 6 и пунктом 3 части первой статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 дек. 1999 г. № 211-О//СЗ РФ. 2000. № 10. Ст. 1164.
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Корчагина Алексея Юрьевича на нарушение его конституционных прав положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 дек. 2005 г. № 473-О. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision31255.pdf (дата обращения 12.05.2017).
- Определение Кассационной палаты Верховного Суда РФ от 14 июля 1999 г.//Бюл. Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 5. С. 4.
- Перекрестов В.Н. Совершенствование системы гарантий добровольности признания вины как направление модернизации уголовно-процессуального законодательства//Вестник Волгоград. гос. ун-та. Сер. 5. Юриспруденция. 2013. № 2 (19). С. 160-165.
- Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России: В 2 ч. М.: ТК Велби, 2005. Ч. 2. 192 с.
- По делу «Павленко против Российской Федерации»: решение Европейского Суда по правам человека от 1 апр. 2010 г.//Бюл. Европейского Суда по правам человека. 2010. № 10. С. 83-102.
- Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме: утвержден Генеральной Ассамблеей ООН Резолюцией 43/173 от 9 дек. 1988 г.//Международные акты о правах человека: сб. документов/сост. В.А. Карташкин и Е.А. Лукашева; 2-е изд. доп. М.: НОРМА, 2002. С. 212-220.
- Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации/под общ. ред. А.В. Смирнова. СПб.: Питер, 2004. 567 с.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1-32.1: постатейный научно-практический комментарий/отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: Ред. «Российской газеты», 2015. 912 с.