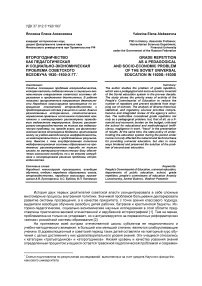Второгодничество как педагогическая и социально-экономическая проблема советского всеобуча 1920-1930-х гг.
Автор: Ялозина Елена Алексеевна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 3, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме второгодничества, которая являлась педагогическим и социально-экономическим инвариантом советской системы образования в предвоенное десятилетие. В работе показаны приоритетные направления деятельности Народного комиссариата просвещения по сокращению показателей второгодничества и предотвращению отсева учащихся из школ. Анализ разноплановых исторических, статистических, нормативно-правовых источников позволяет комплексно и интегрировано рассмотреть проводимые ведомством мероприятия. Власть рассматривала второгодничество не только как педагогическую проблему, но, прежде всего, как финансовоэкономическое отягощение бюджета, критиковала школу за учебно-методическую неэффективность, «очковтирательство» в представлении результатов. Вместе с тем государственная политика недофинансирования системы образования на протяжении рассматриваемого периода не только влияла на материально-техническую базу обеспечения школьного всеобуча, но и во многом затрудняла и консервировала решение проблемы второгодничества.
Народный комиссариат просвещения, всеобщее обучение, отделы народного образования, школа, второгодничество, народные комиссары просвещения а.в. луначарский, а.с. бубнов, в.п. потемкин
Короткий адрес: https://sciup.org/149134670
IDR: 149134670 | УДК: 37.012.3“192/193” | DOI: 10.24158/spp.2021.3.23
Текст научной статьи Второгодничество как педагогическая и социально-экономическая проблема советского всеобуча 1920-1930-х гг.
История двух первых десятилетий советской власти сконцентрировала в себе сложные многомерные процессы внутренней политики. Значимой проблемой большевики декларировали развитие системы просвещения, а в качестве приоритета, с точки зрения классового подхода, выдвигали всеобщее обучение (всеобуч) детей рабочих, батраков и крестьянской бедноты. Историко-педагогические, социально-экономические научные исследования в этой области представлены практически вековой отечественной и зарубежной историографией [1]. Тем не менее, проблематика не только не устаревает, но и актуализируется на перманентных реформаторских «витках» российской системы образования [2].
На протяжении всей истории отечественной школы субъектом ее педагогического и учебно-методического внимания, в большей или меньшей степени, являются слабоуспевающие ученики. В дореволюционный и советский период таких детей оставляли на повторный курс обучения с целью достижения у них удовлетворительного уровня знаний. Эти учащиеся относились к категории «третьегодников» и «второгодников». Низкий уровень и качество усвоения знаний определенным процентом учащихся остается тревожной педагогической проблемой и современ- ной школы. Ее реализация рассматривается в контексте гуманистического направления, личностного подхода к ученику, развития его индивидуальности средствами нового содержания образования и инновационных технологий обучения [3].
Предметом рассмотрения в данной статье является второгодничество в советской школе и мероприятия ведомства Народного комиссариата просвещения по его преодолению в условиях социально-экономической конъюнктуры второй половины 1920-х – 1930-х гг.
Исследования материально-технического состояния сети школ и уровня обеспечения учебного процесса в восстановительный период 1920-х гг. свидетельствуют, что на школьном образовании большевики вынуждены были экономить. Средства центрального и местного бюджетов выделялись на народное образование по остаточному принципу, использовались возможности его внебюджетного финансирования за счет самообложения родителей, договорных кампаний с населением, шефской помощи, платы за обучение и других видов [4, с. 130–154]. В конце 1920-х гг. в условиях форсированной индустриализации власть активно задействовала все внутренние источники финансирования, в частности, перекачивала их из социально-культурной сферы, оптимизируя и уменьшая расходы бюджета на нее. В системе образования это осуществлялось за счет сокращения инспекторского аппарата местных отделов народного образования, расходов на курсовую подготовку учителей, на транспорт, командировки, замораживания или многомесячных задержек зарплаты учителей [5].
В этом ряду «режима экономии» и секвестра оказался и всеобуч, одним из показателей эффективности которого был уровень второгодничества. В ходе реализации директив первых пятилеток советское правительство рассматривало проблему второгодничества с точки зрения финансово-экономической целесообразности. Ведь большое количество второгодников затрудняло выполнение государственных планов всеобуча в установленные сроки и стоило бюджету дополнительных нерациональных затрат, связанных с увеличением срока повторного обучения учащихся, дополнительными кадрами учителей, школьными помещениями, многосменностью занятий. О том, насколько тема второгодничества вызывала серьезную озабоченность власти, свидетельствует внимание к ней делегатов высшего государственного органа – ХIII Всероссийского съезда Советов (апрель 1927 г.). Выступая на заседании, нарком просвещения А.В. Луначарский говорил о второгодничестве как о социально-экономическом препятствии реализации советского всеобуча. По сведениям Наркомпроса, в 1927/1928 учебном году только в начальной школе оставалось около 900 000 второгодников, на которых было потрачено почти 23 млн р.; в школе второй ступени – около 100 000 второгодников, обошедшихся советскому государству примерно в 6 млн р. [6, c. 23]. Съезд констатировал, что второгодничество как элемент всеобуча являлось результатом недостатков педагогической работы отделов образования и оборачивалось экономическим ущербом для народного хозяйства.
Комплексное представление о формах и методах сокращения показателей второгодничества дают Циркуляры комиссариата просвещения, в частности, «О борьбе с второгодничеством», «Об организации нулевых групп», опубликованные в ведомственном Еженедельнике в 1928/1929 учебном году [7, ст. 452, ст. 453]. Наркомпрос исходил из того, что в основе проблем с обучением лежат социально-бытовые причины. Дети из «бедняцкой и рабочей среды» с низким уровнем жизни семей изначально приходят в школу «несколько отставшими в своем развитии» по сравнению со сверстниками из семей служащих или интеллигенции. Ошибка школы состоит в том, что она подходит ко всем ученикам одинаково, и это приводит к высокому проценту второгодников из бедных слоев и их последующему отсеву, то есть преждевременному уходу из школы. А незаконченный курс обучения в школе – это срыв государственных планов всеобуча. В документах подчеркивалась важная роль школы и учителя по своевременному налаживанию связи с родителями, выявлению материального положения семей учащихся с целью перераспределения бесплатных учебников, горячих завтраков в пользу малообеспеченных. Отделам народного образования рекомендовалось в местах «массового скопления бедняцко-батрацких слоев населения» создавать «нулевые группы» в качестве мероприятия по подготовке детей рабочих, батраков и бедняцкой части крестьянства к школе и профилактике возможного второгодничества. Циркуляры обращали внимание на эффективность и полезность общественной работы «кружков взаимопомощи», когда под руководством учителя хорошо успевающие в учебе пионеры и комсомольцы помогают отстающим и в учебное, и в летнее время. При этом Наркомпрос рекомендовал выполнять циркуляр не «по букве, а по смыслу» и не относиться к учащимся формально и безапелляционно, даже если ученик не сдал по двум предметам необходимые зачеты и работы. При всей исключительной важности борьбы с второгодничеством Народный комиссариат призывал не допускать соревнования между школами и группами в отношении снижения процента и показателей количества отстающих. Соревнование должно проходить по линии проведения лучших и серьезных мероприятий: деятельности кружков взаимопомощи, вовлеченности в эту работу активных и успевающих пионеров, обеспечения отстающих учеников пособиями и письменными принадлежностями, устройства в школе «уголков спокойной и тихой работы» для тех, чьи домашние условия не позволяют готовить уроки.
Местные отделы народного образования и школы по мере своих организационных и материально-технических возможностей расширяли перечень рекомендованных мероприятий по обеспечению нуждающихся учеников обувью, одеждой, завтраками. Учителя на общественных началах проводили с ними дополнительные занятия [8]. В борьбе с второгодничеством школе по-прежнему приходилось противостоять родителям, которые в силу традиционных взглядов, по материальным или бытовым соображениям не пускали детей в школу, оставляя нянчить малолетних, пасти скот, работать в поле, на промыслах. В 1929/1930 учебном году журнал «Народное просвещение» наглядно отражал эту проблему всеобуча, называя ее родительским произволом, рекомендовал учителям, в целях предотвращения второгодничества и отсева, своевременно и настойчиво проводить разъяснительную работу с родителями о пагубности их действий. Партийно-комсомольские и профсоюзные руководители, в свою очередь, призывали рядовых членов организаций развернуть широкую общественную кампанию и культпоходы против второгодничества. Раздавались призывы законодательно запретить «малокультурным» родителям забирать детей из школы до ее окончания «без совершенно исключительных причин», доказанных перед вышестоящей инстанцией [9, с. 23–24].
Осенью 1929 г. Наркомпрос возглавил А.С. Бубнов. Принципы его руководства ведомством отражали общегосударственные управленческие тенденции: планирование, администрирование, контроль, ужесточение дисциплины. Уже по итогам 1929/1930 учебного года стали заметны обнадеживающие сдвиги в деле всеобуча. В городских школах второгодничество составило 7,4 %, в сельской местности – 8,8 %, отсев учащихся начальных классов сельских школ в среднем сократился на 4–8 % [10, с. 12]. Органы народного образования возлагали серьезные надежды на принятый летом 1930 г. закон «О всеобщем обязательном начальном обучении». Однако ожидания, что с его вступлением в действие сократятся показатели второгодничества и отсева, не оправдались. Директива не была обеспечена соответствующей социально-экономической и материально-технической поддержкой со стороны государства, при этом часть родителей привычно придерживалась патриархальных взглядов на образование.
На протяжении предвоенного десятилетия Народный комиссариат просвещения методично отслеживал динамику и тенденции второгодничества, администрировал это процесс, используя методы поощрения и наказания. По итогам 1930/1931 учебного года школа вновь показала высокие цифры отсева (20–30 %) и второгодничества (11–8,5 %) [11, с. 11]. В следующем году, по официальным данным, статистика второгодничества в городских и сельских школах снизилась в среднем на 2–3 %. При этом на обучение второгодников государство по-прежнему тратило большие суммы: около 30 % всего бюджета начальной школы и около 25 % бюджета школы II ступени [12]. В 1932/1933 учебном году Наркомпрос уставил допустимую планку второгодничества не выше 1 %, обещав премировать учителей, успешно справившихся с выполнением показателей. Чтобы снизить уровень второгодничества, школам официально разрешили давать задания на лето учащимся, которые не успевали по одному-двум предметам. Если отставание в учебе было ликвидировано, ученика переводили в следующий класс. Тем не менее, второгодничество продолжало оставаться серьезной проблемой советской системы образования. В 1934 г. его показатели по начальной школе составляли около 7 %, по неполной средней школе – более 9 %, по средней школе – около 2 % [13, с. 90–91]. В 1936 г. в начальных школах после весенних проверочных испытаний на второй год было оставлено в среднем 11 % учащихся, 4,2 % получили осенние испытания.
Низкая успеваемость и второгодничество являлись предметом серьезной партийной критики. Школу обвиняли в том, что она работала с высоким процентом «брака», с низким коэффициентом полезного действия и нерентабельно использовала средства. Так, секретарь Горьковского краевого комитета ВКП(б), выступая на съезде учителей в 1936 г., указывал, что на «удовольствие» повторного обучения школьников из бюджета ушло 19 700 тыс. р. [14, с. 6]. Второгодничество и отсев учащихся из школы были отнесены к неприемлемым недостаткам советской системы образования и раскритикованы летом 1936 г. в постановлении ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов». Наркомат просвещения оперативно реагировал на партийную критику и активно задействовал свой инспекторский аппарат Управления школой для ежегодных проверок краевых, областных отделов народного образования по различным направлениям их деятельности. Только в 1936/1937 учебном году состоялись 134 командировки бригад инспекторов по проверке хода всеобуча. На 20 июня 1937 г. по информации из 22 краев и областей РСФСР о количестве учащихся, оставленных на второй год в начальных школах, Наркомпрос располагал следующими сведениями: количество учащихся – 2 425 357; из них второгодников 193 787 (8 % против
11 % в предыдущем году) [15, с. 137]. Дети пропускали занятия из-за материальных трудностей в семье, распространенным фактором был правовой нигилизм родителей относительно выполнения Закона об обязательном всеобуче. В ходе инспекторских проверок вскрывались факты преднамеренного занижения реальных показателей второгодничества. Выяснялось, что отделы народного образования, как правило, не предпринимали мер административного воздействия против родителей, не отпускавших детей в школу, и, опасаясь критики в свой адрес со стороны вышестоящего руководства и последующего наказания, фальсифицировали отчеты.
По итогам инспекторских проверок Наркомпрос заключал, что низкие показатели всеобуча во многом являются результатом не только бесконтрольности школ со стороны отделов народного образования, но и безответственности и недобросовестного отношения к делу учителей. К примеру, при обследовании школ Западной области было обнаружено, что, несмотря на достаточное образование и многолетний стаж работы, учителя в этом регионе имели большой процент второгодников. В отчетах инспекторов приводились примеры, когда в одной их школ из 45 учащихся IV класса 16 человек не выдержали испытаний, 5 человек не явились на испытания. Причину этой неявки ни учителя, ни заведующий школой не знали. Были обнаружены множественные факты сокрытия реального числа второгодников, когда учителя показывали в статистическом отчете школы в 2–3 раза меньше учеников, чем реально было оставлено на второй год. Показательным стало резонансное дело школы № 25 г. Москвы, где учились дети высокопоставленных советских чиновников. Вскрытая там система необъективного завышения оценки знаний учащихся рассматривалась на уровне Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), была раскритикована на страницах центральной печати в мае 1937 г. как наглядный пример «очковтирательства» [16, с. 21].
Сводно-статистические сведения планово-финансового Управления Наркомпроса позволяют увидеть, что показатели второгодничества в республиках и областях разнились. Наиболее благоприятная ситуация успеваемости была в школах Москвы и Ленинграда. Число оставленных там в 1940 г. на второй год сократилось вдвое [17]. Вместе с тем, много тревожной информации приходило из регионов. Например, показатели второгодничества в начальной школе Карелии и Дагестана составляли 10–15 % [18]. В Ростовской области число второгодников возросло на 13,4 %, в Саратовской области в результате весенних испытаний 1940 г. было переведено в следующие классы только 79 % учащихся [19, с. 27–28].
Летом 1940 г. проблема реализации всеобуча рассматривалась на заседании актива Наркомпроса. Назначенный недавно наркомом просвещения В.П. Потемкин подчеркивал, что неуспевающие ученики – это не только армия детей, выбивавшаяся из нормального течения школьной учебы, это – миллионы рублей, выбрасываемые на ветер. Второгодничество рассматривалось как «величайшее зло», позорившее школу и приносившее экономический ущерб стране. Наркомпрос признавал, что в основе такого негативного явления лежали не только педагогические, но, в значительной степени, материально-технические проблемы системы образования, а именно: сохранявшиеся трехсменные занятия, недостаток учебников и письменных принадлежностей, нехватка интернатов для учащихся из отдаленных районов, плохая организация подвоза детей в школу [20]. Скорейшее решение этих вопросов напрямую увязывалось с преодолением второгодничества и достойной реализацией советского всеобуча. Однако события Великой Отечественной войны отодвинули решение множества педагогических проблем.
Ссылки:
-
1. Мясников В.А., Овчинников А.В., Козлова Г.Н. Историография общеобразовательной школы РСФСР. М., 2013. 184 с.; Овчинников А.В., Козлова Г.Н., Петухова И.В. Власть и общество в развитии общего образования в России (ХIХ – конец ХХ века). М., 2019. 230 с.; Антропология советской школы: Культурные универсалии и провинциальные практики: сб. ст. Пермь, 2010. 300 с.; Холмс Л. Социальная история России 1917–1941. Ростов н/Д., 1994. 148 с.; Юинг Е.Т. Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг. М., 2011. 359 с.
-
2. Ялозина Е.А. Ретроспектива отечественного школьного всеобуча. В 2-х томах. Т. 2. Форсированное развитие школьного всеобуча (1930-е гг.). Ростов н/Д., 2017. 152 с.
-
3. Курепина А.В. Историко-педагогическое исследование проблемы неуспеваемости школьников: дис.... канд. пед. наук. Таганрог, 2003. 191 c.
-
4. Ялозина Е.А. Ретроспектива отечественного школьного всеобуча. В 2-х томах. Т. 1. Истоки, генезис, государственная политика всеобуча (Х –начало ХХ вв.). Ростов н/Д. 2015. 220 с.
-
5. Там же. С. 155–160; 197–200.
-
6. Народное просвещение. 1929. № 10-11.
-
7. Еженедельник НКП РСФСР. 1929. № 20.
-
8. Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1849. Оп. 1. Д. 139. Л. 4–6.
-
9. Народное просвещение. 1930. № 7-8.
-
10. Там же. С. 12.
-
11. Коммунистическое просвещение. 1931. № 21.
-
12. Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 4372. Оп. 30. Д. 1041. Л. 8; РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 34. Д. 556. Л. 27. 13. Коммунистическое просвещение. 1934. № 5-6.
-
14. Докладная записка. Итоги работы начальной школы в 1936/1937 учебном году. Наркомпрос. М., 1937.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Итоги работы начальной школы в 1936/37 г. Наркомпрос. М., 1937.
Докладная записка наркома просвещения об итогах работы школы в 1936/1937 учебном году. Наркомпрос. М., 1937.
РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 30. Д. 1041. Л. 8; РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 34. Д. 556. Л. 27.
ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 70. Д. 6842. Л. 13–15.
Ростовской области – 70 лет (1937–2007 гг.). Сборник документов. Ростов н/Д., 2007. 560 с.
Коммунист. 1940. № 67 (1051).12 июля.
Редактор, переводчик: Невзорова Наталья Викторовна
Список литературы Второгодничество как педагогическая и социально-экономическая проблема советского всеобуча 1920-1930-х гг.
- Мясников В.А., Овчинников А.В., Козлова Г.Н. Историография общеобразовательной школы РСФСР. М., 2013. 184 с.; Овчинников А.В., Козлова Г.Н., Петухова И.В. Власть и общество в развитии общего образования в России (XIX - конец XX века). М., 2019. 230 с.; Антропология советской школы: Культурные универсалии и провинциальные практики: сб. ст. Пермь, 2010. 300 с.; Холмс Л. Социальная история России 1917-1941. Ростов н/Д., 1994. 148 с.; Юинг Е.Т. Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг. М., 2011. 359 с.
- Ялозина Е.А. Ретроспектива отечественного школьного всеобуча. В 2-х томах. Т. 2. Форсированное развитие школьного всеобуча (1930-е гг.). Ростов н/Д., 2017. 152 с.
- Курепина А.В. Историко-педагогическое исследование проблемы неуспеваемости школьников: дис. ... канд. пед. наук. Таганрог, 2003. 191 а
- Ялозина Е.А. Ретроспектива отечественного школьного всеобуча. В 2-х томах. Т. 1. Истоки, генезис, государственная политика всеобуча (X -начало XX вв.). Ростов н/Д. 2015. 220 с.
- Там же. С. 155-160; 197-200.
- Народное просвещение. 1929. № 10-11.
- Еженедельник НКП РСФСР. 1929. № 20.
- Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1849. Оп. 1. Д. 139. Л. 4-6.
- Народное просвещение. 1930. № 7-8.
- Там же. С. 12.
- Коммунистическое просвещение. 1931. № 21.
- Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 4372. Оп. 30. Д. 1041. Л. 8; РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 34. Д. 556. Л. 27.
- Коммунистическое просвещение. 1934. № 5-6.
- Докладная записка. Итоги работы начальной школы в 1936/1937 учебном году. Наркомпрос. М., 1937.
- Итоги работы начальной школы в 1936/37 г. Наркомпрос. М., 1937.
- Докладная записка наркома просвещения об итогах работы школы в 1936/1937 учебном году. Наркомпрос. М., 1937.
- РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 30. Д. 1041. Л. 8; РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 34. Д. 556. Л. 27.
- ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 70. Д. 6842. Л. 13-15.
- Ростовской области - 70 лет (1937-2007 гг.). Сборник документов. Ростов н/Д., 2007. 560 с.
- Коммунист. 1940. № 67 (1051).12 июля.