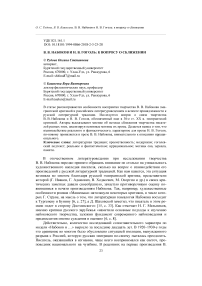В.В. Набоков и Н.В. Гоголь: к вопросу о сближении
Автор: Рудова О.С., Башкеева В.В.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности восприятия творчества В.В. Набокова эмигрантской критикой и российским литературоведением в аспекте принадлежности к русской литературной традиции. Исследуется вопрос о связи творчества В.В. Набокова и Н.В. Гоголя, обозначенный еще в 30-е гг. XX в. эмигрантской критикой. Авторы высказывают мнение об истоках сближения творчества писателей разных эпох, анализируя основные мотивы их прозы. Делается вывод о том, что взаимодействие реального и фантастического, характерное для прозы Н.В. Гоголя, по-новому проявляется в прозе В.В. Набокова, внимательного к описанию иррационального.
Литературная традиция, преемственность, модернизм, гоголевский подтекст, реальное и фантастическое, иррациональное, мотивы сна, зеркала, памяти
Короткий адрес: https://sciup.org/148317232
IDR: 148317232 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.18101/1994-0866-2018-2-3-23-28
Текст научной статьи В.В. Набоков и Н.В. Гоголь: к вопросу о сближении
В отечественном литературоведении при исследовании творчества В . В . Набокова нередко принято обращать внимание не столько на уникальность художественного наследия писателя , сколько на вопрос о взаимодействии его произведений с русской литературной традицией . Как нам кажется , эта ситуация возникла во многом благодаря русской эмигрантской критике , представители которой ( Г . Иванов , Г . Адамович , В . Ходасевич , М . Осоргин и др .) в своих кри тических заметках давали своеобразную , зачастую противоречивую оценку по явившимся в печати произведениям Набокова . Так , например , художественные особенности романа « Машенька » натолкнули некоторых критиков , в числе кото рых Г . Струве , на мысль о том , что литературная генеалогия Набокова восходит к Тургеневу и Бунину [6, с . 27], а Д . Шаховской заметил , что писатель в этом ро мане « идет в сторону Достоевского » [15, с . 33]. Как отмечает Н . Г . Мельников , именно критики русского зарубежья « наметили основные подходы к изучению набоковского творчества , заложив фундамент современного набоковедения и предвосхитив многие суждения и оценки » [6, с . 8].
Действительно , количество исследований сопоставительного характера по модели « Набоков и …» выросло за последние двадцать лет . В 1920 ‒ 1930- е годы это сравнение во многом было обусловлено ситуацией изоляции , вынужденного разрыва с Россией , которую русская эмиграция по - своему пыталась преодолеть . Писатель , оказавшийся в изгнании , чаще всего воспринимался как светоч , про поведник национального на чужбине . В рецензиях на первые произведения В .
Набокова четко прослеживается полемика по вопросу об истоках таланта писате ля . По мере того , как от произведения к произведению все отчетливее начинает проявляться тот набоковский стиль , по которому сегодня мы способны распо знать руку мастера , в эмигрантской критике ослабевает мысль о причастности его творчества к русской литературной традиции . Актуальным данный вопрос является и для современного литературоведения . Пути сравнения , намеченные еще эмигрантской критикой , оказываются продуктивными и сегодня , с той раз ницей лишь , что более важным и интересным становится не столько доказать гипотезу о русском / западном характере творчества Набокова , сколько попытать ся увидеть уникальное и общее , индивидуальное и типическое как явления и процессы , раскрывающие особенности литературного процесса в целом .
Творчество Николая Васильевича Гоголя оказалось в числе первых из упо мянутых в рецензиях на прозу Набокова . В частности , Г . Адамович утверждал , что « именно от Гоголя ведет Набоков свою родословную » [1, с . 74]. Подобную точку зрения высказывали В . Ходасевич , П . Бицилли , Н . Андреев , Г . Струве и другие . Она остается актуальной и интересной для современных ученых , кото рые исследуют ее , применяя различные методологические обоснования ( Л . Н . Целкова , А . В . Злочевская , М . Ю . Антоничева , К . А . Волков и др .).
Поскольку Н . В . Гоголь и В . В . Набоков — писатели , представляющие раз ные эпохи в развитии русской литературы , писатели , кажущиеся абсолютно не похожими , в данной работе мы обозначим лишь некоторые особенности , кото рые могут направить на мысль о присутствии в их произведениях момента сбли жения .
Существует разница в восприятии Н . В . Гоголем и В . В . Набоковым отно шений между автором и персонажем в художественном мире их прозы . « Никто из читателей моих не знал того , что , смеясь над моими героями , он смеялся надо мной » [5, с . 260], — говорит Н . В . Гоголь , определяя автобиографичность созда ваемых им персонажей . В отличие от него Набоков в многочисленных интервью продемонстрировал взаимоисключающие точки зрения . « В сущности , когда я пишу , я придумываю самого себя …» [11, с . 90], — сказал Набоков в интервью Жану Дювинью , очерчивая грани реального , автобиографического начала своей прозы . Однако в интервью Олвину Тоффлеру эта позиция им оспаривается : « Я стараюсь держать персонажей за пределами своей личности » [12, с . 121].
Несмотря на разницу целеполагания в создании персонажей , роднит Набо кова и Гоголя то , что художественное творчество , так или иначе , воспринимается ими как способ самоидентификации . Интересно , что движущей силой в этом процессе у писателей является авторский замысел . « Замысел романа прочно держится в моем сознании , и каждый герой идет по тому пути , который я для него придумал . В этом приватном мире я совершенный диктатор » [10, с . 185], — такое отношение Набокова к создаваемым им персонажам , на наш взгляд , во многом схоже с типологическим мастерством Н . В . Гоголя , который задумывал описать преображение Чичикова во втором томе « Мертвых душ », тем самым подчинив образ общей идее произведения .
Цель искусства и высокое предназначение писателя, по Гоголю, направить читателя на путь духовного возрождения, отречения от собственных пороков: «И на моем поприще писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную» [5, с. 123]. «Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки» [5, с. 126], — такой увидел писа- тель реакцию современников на «Мертвые души». Гоголь — великий человеколюбец, способный не только разглядеть человеческие пороки, но и, посмеявшись над ними, простить их по заповеди Христовой. Стремление к нравственному идеалу, на наш взгляд, является движущей силой в творчестве классика. Эта сила направлена на преображение читателя, а через это и на преображение жизни общества. В интервью Питеру Дювалю-Смиту Набоков заявил: «…реальность — бесконечная последовательность шагов, уровней восприятия, ложных днищ, а потому она неутомима, недостижима. Так мы и живем, окруженные более или менее призрачными объектами» [13, с. 118]. Для писателя-модерниста, как видим, реальность не делится лишь на плохое и хорошее, добро и зло, а потому трудно постижима. Понимание этого не остановило попытки Набокова приоткрыть завесу тайны, понять истинные законы бытия, но многовекторность набоковского взгляда на мир говорит о трудности достижения идеала. Возможно, он и не важен, важным становится сам процесс творчества как попытка создать мир, противостоящий действительности. Неслучайно ведь Набоков вслед за Гоголем изображал своих героев творцами (Смуров, Герман, Фёдор Годунов-Чердынцев).
Размышления над сложной концепцией художественного мира произведе ний Набокова закономерно наталкивают на вопрос о его истоках . Рассуждая об этом , Г . Адамович , вслед за В . Ходасевичем , заключил : « Русская литература — по известной формуле — вышла из “ Шинели ”: допустим . Но Сирин - то вышел из “ Носа ” ( прошу простить , если тут получается глупая метафора ), — через « Нос » восходит к безумному холостому началу гоголевского творчества » [2, с . 122]. Как видим , рецепция критика основывается на общем ощущении , оставляемом прозой Набокова , — экзистенциальном восприятии пустоты , условности мира , нашедшем выражение в литературе модернизма .
Сложное взаимодействие реального и фантастического характерно для творчества Набокова . Генезис художественного двоемирия в аспекте реального и фантастического в русской литературе во многом возводят к Гоголю . Так , Ю . Манн отмечает « принцип параллелизма реального и фантастического » [7, с . 80], лежащий в основе фантастики Гоголя . Важная особенность творчества Набокова как раз состоит , на наш взгляд , в том , что писатель заимствовал эту модель , а также обогатил ее особым психологизмом .
Характерно для творчества Набокова то , что писатель акцентирует идею ир рационального и субъективного . В его произведениях иррациональное начало художественной реальности многопланово и реализуется , например , через мотив сна (« Соглядатай », « Приглашение на казнь »), мотив зеркала (« Отчаяние »), мотив памяти (« Дар »), гротескное видение реальности (« Приглашение на казнь »).
Если говорить о мотиве сна, то в повести «Соглядатай» Набоков вводит его для постановки вопроса о достоверности описываемых событий, правдоподобии художественного мира: «После выстрела, выстрела, по моему мнению, смертельного, я с любопытством глядел на себя со стороны, и мучительное прошлое мое — до выстрела — было мне как-то чуждо» [8, с. 310]. Здесь мотив сна у Набокова берет на себя сюжетообразующую функцию, поскольку с момента погружения героя в мир собственной фантазии начинается развитие фабулы. Жизнь есть сон — такова концепция художественного мира повести. Если отойти от метафоры к сюжету, то сон этот носит калейдоскопический характер: на протяжении повествования Набоков предлагает читателю познакомиться со множеством вариантов личности главного героя, среди которых невозможно отдать предпочтение одному. Они неотделимы от героя: в собственных глазах он храбрец, натура творческая, общество считает его лжецом и трусом. Главное, чем ирреальность наделяет Смурова — неуязвимостью, ведь в своих мечтах он абсолютно защищен от действительности. Поэтому неудавшиеся отношения с Ваней герой не считает за поражение: «У меня с нею были по ночам душераздирающие свидания, и ее муж никогда не узнает этих моих снов о ней» [8, с. 345].
Сон героя , описанный в шестой главе повести , является способом постиже ния героем своей личности и реабилитацией перед действительностью : в нем он открыто признается Хрущеву в своих чувствах к Ване и предпринимает попытку досказать свою непричастность к исчезновению табакерки Хрущева . Смуров , подобно герою гоголевских « Записок сумасшедшего », моделирует наиболее приемлемое для себя психологическое , личностное пространство : « И пускай сам по себе я пошловат , подловат , пускай никто не знает , не ценит того замечатель ного , что есть во мне , — моей фантазии , моей эрудиции , моего литературного дара …» [8, с . 345].
Мотив зеркала в романе « Отчаяние » связан с тем , что Герман любит смот реться в зеркало , поскольку отражение в нем подтверждает мысль о его принад лежности к особой породе мужчин , красавцев и умниц . Однако наступает мо мент , когда зеркальная поверхность воспринимается им как искажающая , герой вспоминает про существование кривых зеркал .
Мотив памяти становится одним из важных композиционных элементов в романе « Дар ». Если в большинстве романов русского периода , в том числе и в « Приглашении на казнь », мотив памяти подчинен идеализации прошлого , то в « Даре » он наделяется новой функцией . « Передвигаясь с караваном по Тянь - Шаню , я вижу теперь , как близится вечер , натягивая тень на горные скаты . От ложив на утро трудную переправу ( через бурную реку переброшен ветхий мост с каменными плитами поверх хвороста , а на той стороне подъем крутенек , а глав ное — гладок , как стекло ), караван расположился на ночлег » [9, с . 107], — так рассказывает главный герой об экспедиции своего отца , в которой сам никогда не был . Как видим , воссоздаваемое пространство в приведенном отрывке , кото рых в романе много , очень детально . Так проявляется в романе всезнающий по вествователь . Воспоминания Федора об отце наполнены эффектом присутствия , что помогает расширить границы пространства повествования , становится свое образным ключом к постижению мира . Кроме этого , создается параллельная ос новному действию сюжетная линия , в которой главным героем становится отец Федора Годунова - Чердынцева , и личность его во многом идеализирована : « В моем отце и вокруг него , вокруг этой ясной и прямой силы было что - то , трудно передаваемое словами , дымка , тайна , загадочная недоговоренность , кото рая чувствовалась мной то больше , то меньше » [9, с . 103]. Всё это позволяет го ворить о сюжетообразующей функции мотива памяти .
Как такового мотива памяти во внутренней структуре произведений Гоголя, на наш взгляд, нет, но постижение прошлого очень ярко. Цикл «Вечеров на хуторе близ Диканьки» можно назвать рассказами о прошлом, которые поведал читателю пасечник Рудый Панько. К примеру, действие рассказа «Сорочинская ярмарка» происходило «лет тридцать будет тому назад» [3, с. 67]. «Лет — ку-ды! — более чем за сто, говорил покойник дед мой, нашего села и не узнал бы никто <…>» [3, с. 70], — так начинается повествование в «Вечере накануне Ивана Купала». Отметим, что в этих проекциях на условное прошлое в цикле посто- янно присутствует ирреальное злое начало: черт, ведьма, колдун, русалка и т. д. Поскольку действующим лицом в «Вечерах…» является народ, мы предполагаем, что это взаимодействие прошлого и ирреального помогает Гоголю передать традиционное для славянской культуры представление о мире как о борьбе разных сил. А в поэме «Мертвые души» необходимо видеть ретроспекцию, которая вводится писателем для создания более полного образа героя и подчинена авторскому замыслу: таково повествование о судьбе Чичикова и Плюшкина. Таким образом, общенародная память у Гоголя и индивидуальная у Набокова являются инструментами постижения мира и человека.
Кроме того , достаточно важна для Набокова мистическая составляющая . Таким нам — в узком смысле слова « мистический » — видится включение по вествования о спиритических сеансах Вайнштока в романе « Соглядатай ». При стальное внимание к диалогам с потусторонним у Набокова имеет намеренно ироничный тон : нелепость диалогов между Вайнштоком и вызываемыми духами , среди которых соседство поделили Цезарь , Магомет , Пушкин и двоюродный брат Вайнштока , фиксируется писателем очень детально . Примечательно и то , что посредником в спиритических сеансах выступает « глуповатый и безвкус ный » [8, с . 316] дух Абум . В многовекторной модели мира Набокова не находит ся места для потустороннего , но места для идеи философски понимаемого зла — в широком смысле слова — более чем достаточно . Чаще всего зло становится составляющей внутреннего мира набоковского героя . Рассуждая об агностиче ском свойстве прозы Набокова , З . Шаховская замечает : « Вместо чёрта Гоголя или бесов Пушкина частый гость Набокова — печальный демон , дух изгнания » [14, с . 91]. Для Набокова страшно то , что таится в глубинах человеческой души .
Представленные наблюдения позволяют нам сделать вывод о том , что по пытки проследить некоторое сближение творчества Набокова и Гоголя имеют под собой почву . « Двоящиеся гоголевские видения , фантастичность , призрач ность гоголевских обманчиво - бытовых картин » [1, с . 73] — вот те особенности художественного мира классика , которые были восприняты писателями - модернистами , в числе которых В . В . Набоков . Взаимодействие реального и фан тастического , характерное для прозы Гоголя , по - новому проявляется в прозе Набокова , внимательного к описанию иррационального . Это родство , подчас ин туитивное , можно проследить при анализе мотивной структуры произведений писателей . Именно мотивы , на наш взгляд , при чтении произведений Набокова дарят ощущение присутствия гоголевского подтекста , созвучного или вступаю щего в оппозицию к обозначенному в каждом конкретном произведении .
Список литературы В.В. Набоков и Н.В. Гоголь: к вопросу о сближении
- Адамович Г. Предисловие к роману «Защита Лужина» // Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: критические отзывы, эссе, пародии / под общ. ред. И. Г. Мельникова. - М.: Новое литературное обозрение, 2000. - С. 70-76.
- Адамович Г. Рецензия на роман «Отчаяние» // Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: критические отзывы, эссе, пародии / под общ. ред. И. Г. Мельникова. - М.: Новое литературное обозрение, 2000. - С. 117-123.
- Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 8 т. / под общ. ред. В. Р. Щербины. - М.: Правда, 1984. - Т. 1. - 382 с.
- Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 8 т. / под общ. ред. В. Р. Щербины. - М.: Правда, 1984. - Т. 7. - 528 с.
- Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. - СПб.: Азбука-классика, 2005. - 320 с.