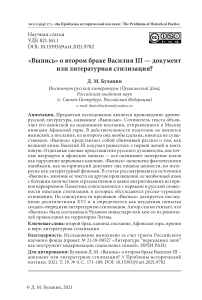"Выпись" о втором браке Василия III - документ или литературная стилизация?
Автор: Буланин Дмитрий Михайлович
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования является произведение древнерусской литературы, названное «Выписью». Сочинитель текста объявляет его выпиской из подлинного послания, отправленного в Москву иноками Афонской горы. В действительности памятник не является выпиской, а послания, из которого она якобы сделана, никогда не существовало. «Выпись» представляет собой сбивчивый рассказ о том, как великий князь Василий III надумал развестись с первой женой и взять новую. Отдельные смелые представители русского духовенства, восточные патриархи и афонские монахи - все оценивают намерение князя как нарушение церковных канонов. «Выпись» наполнена фактическими ошибками, как исторический документ она лишена ценности, но интересна как литературный феномен. В статье рассматриваются источники «Выписи», влияние ее текста на другие произведения, ее необычный язык с большим количество аграмматизмов и давно интриговавших историков варваризмов. Памятник сопоставляется с первыми в русской словесности опытами стилизации, в которых обсуждаются русско-турецкие отношения. По совокупности признаков «Выпись» датируется последними десятилетиями XVI в. и определяется как неудачная попытка создать очередную литературную стилизацию. Автор статьи считает, что «Выпись» была составлена в Чудовом монастыре или кем-то из ревнителей православия на территории Литвы.
Второй брак, каноны, послание, афонская гора, прения о вере, литературная стилизация
Короткий адрес: https://sciup.org/147236180
IDR: 147236180 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9782
Текст научной статьи "Выпись" о втором браке Василия III - документ или литературная стилизация?
В 1525 г. по ближним и дальним пределам Московского государства разнеслась весть: великий князь Василий III развелся со своей женой Соломонией Сабуровой, которая была объявлена бесплодной и пострижена в монахини. В начале следующего года князь сочетался браком с новой женой — Еленой, из литовского рода Глинских. Хотя православная церковь всегда запрещала разводы и новые браки, жизнь обычно явочным порядком корректировала строгие каноны. На нарушения могли смотреть сквозь пальцы, но только не в случае с семьей московского князя, тем более не в отношении действий Василия III. Дело в том, что именно при нем была оформлена идеологическая подоплека, превращавшая Московское княжество в «священное царство», а главу этого царства — в сакральную фигуру. Для подданных каждый поступок князя заключал в себе символический смысл, который проецировался на будущих правителей богоизбранной державы. Добавим, что жизнь и быт всех сословий Древней Руси, и в особенности жизнь государя, второе уже столетие строилась во многом по предписаниям монастырского устава. Ригоризм принявших обет иноков отбрасывал тень на тех, кто оставался в миру. Развод великого князя демонстративно нарушал конвенции общества и, главное, ставил под сомнение символическую роль разведенного супруга в провиденциальной истории. В довершение всего, новобрачный сбрил бороду, что расценивалось как еще один вызов церковным установлениям. Неприязненное отношение к разводу по религиозным соображениям подогревалось непростой расстановкой политических сил. Братья Василия III понимали, что, в случае появления у него наследника, рожденного в браке с Глинской, путь к престолу им заказан. Обстановка способствовала тому, что второй брак великого князя стал восприниматься как одно из главных исторических событий эпохи, и ему уделялось повышенное внимание уже в ранних источниках. В то время как апологеты рисовали благостные картины расставания прежних супругов (летописец Боровского монастыря), по неофициальным каналам распространялись слухи о насилии над Соло-монией, противившейся постригу, о рождении у нее в стенах монастыря ребенка [Герберштейн: 87]. Кровавые расправы, ознаменовавшие собой правление Ивана Грозного, современники и потомки спешили объяснить неканоническим характером брака его родителей. Поэтому действительные факты и легенды, касавшиеся инцидента, все дальше уходившего в прошлое, сохраняли свою актуальность до Смутного времени. Целые сочинения и мимолетные высказывания, которые затрагивали данную страницу династической истории и которые накопились без малого за сто лет, разбирались в историографии не раз (см., напр.: [Никитин]). Не последнее место в этом корпусе занимает «Выпись» о втором браке, известная уже Карамзину, назвавшему ее «любопытной, но едва ли достоверной». Он отметил еще, что «в сей выписке много странных выражений и слов вымышленных, каких не бывало в языке нашем» [Карамзин: 64–65, примеч. 277]. Увы, со времен «Истории» Карамзина историко-филологическая наука не слишком продвинулась в интерпретации необычного памятника. О чем же он сообщает? (см.: [Зимин]).
Начнем с заголовка, где читателю обещана «выпись из святогорьские грамоты» и где эта грамота или выписка из нее определена как «творение Паисеино, старца Серапонского монастыря», с вариантом «Ферапонтова» монастыря. На самом деле произведение никак не сводится к «выписи», отождествить Паисия с конкретным историческим лицом не удалось, равно как и монастырь, в котором он творил (первый вариант, предпочтительный как lectio difficilior1), считают испорченным названием афонского Ксиропотама). Автор столь вольно обращается с историей, что под именем Паисия может скрываться контаминация двух исторических деятелей — Паисия Ярославова и Паисия Хиландарского, побывавшего в Москве в 1550 г. Неупорядоченность композиции затрудняет пересказ содержания «Выписи». Произведение открывается панегириком Василию III, где он прославляется, главным образом, за щедрую милостыню, отправляемую христианам, притесняемым неверными. Потом автор приступает к главной теме — скорби великого князя из-за «бесчадия» Соломонии, о его замысле расстаться с ней и взять новую жену. Князь обращается за советом к Вассиану Патрикееву, который, после сбивчивых объяснений, признает брачные планы правителя противоречащими церковным правилам. Пришедший в ярость князь, отправив в заточение строптивого старца, единомысленного ему Максима Грека и других, посылает, по совету митрополита Даниила, запрос четырем восточным патриархам. Они, разумеется, также осуждают Василия III, а Марк Иерусалимский еще и пророчествует, что тот, кто родится от незаконного союза, будет мучителем. Князь в растерянности удаляется в Александровскую слободу, где русские иерархи, по-видимому, собственной волей должны освободить его от обещаний, данных при венчании с Сабуровой (само решение вынесено за рамки текста). Теперь только доходит очередь до Афона, и автор воспроизводит отправленную оттуда грамоту, доставленную в Москву крымским послом. Насельников Святой Горы, как оказалось, никто ни о чем не спрашивал. Они по собственному почину созвали собор для обсуждения трудного случая со вторым браком. Из контекста понятно, что они, хотя и помнят о благодеяниях князя, не могут согласиться с нарушением канонов. При этом никто из собравшихся не решается произнести окончательный вердикт, и это щепетильное задание приходится выполнить уже скончавшемуся авторитетному подвижнику. Он будто бы давным-давно предвидел, что Святой Горе предстоит преподать московскому князю столь болезненный урок. Речь покойного, «великаго старца» Варсонофия, неожиданно обрывается — с ней вместе и вся «Выпись». На смешение разновременных событий, упоминаемых «Выписью», на неувязки в перечне участников этих событий, историки указывали многократно. Все же необходимо подчеркнуть, что большинство героев рассказа являются реальными историческими персонажами, подвизавшимися в Московском государстве в 1520-е гг.
О. М. Бодянский, первый издатель «Выписи», не сомневался в том, что она представляет собой подлинный документ [Бодянский: I–II]. Позднейшие историки, отметив нагромождение в тексте фактических ошибок, в большинстве отказались от этой мысли. Некоторые, спасая положение, допускали, что виноват позднейший полемист, противник развода Василия III, переиначивший доступные ему достоверные материалы. Тем самым в реконструкцию предыстории «Выписи» вносилось дополнительное неизвестное: с гипотетическими документами будто бы имел дело столь же гипотетический полемист. Думается, что первое звено в данном построении можно без сожаления опустить, потому что в тексте нет ни одного факта, отражающего живые впечатления очевидца, и напротив — присутствует очень много искажений действительности, которые были бы необъяснимы в устах этого самого очевидца. Ясно, что автор или авторы работали спустя какое-то время после заключения второго брака Василия III. Но сколь значительный срок отделял их от этого события? На сей предмет сформулированы разные теории. По мнению М. Н. Тихомирова, к которому присоединились позднее и другие исследователи, в пророчестве Марка нашли отражение бурные события конца 1540-х гг., так что «Выпись» нужно датировать этими годами [Тихомиров: 91–94]. Согласно другой точке зрения, разделяемой большинством историков, пророчество Марка, типичное vaticinium ex eventu2), и иные детали более отвечают духовной атмосфере после смерти Грозного. Справедливость этого последнего вывода подтверждают наблюдения над источниками «Выписи»: одни из них четко опознаются в тексте, другие — менее однозначно. Интересно, что прямо или косвенно они соотносятся с интересами Максима Грека и его ближайшего окружения, каким оно было в преддверии рокового брака. Послание Федора Карпова Максиму Греку, текст чрезвычайно редкий, где, как кажется, перефразируется гл. 2 из «Богословия» Иоанна Дамаскина, дает следующую параллель:
|
«Выпись» [Зимин: 140] |
[Максим Грек, 2008: 335–336]. |
|
«…не вся глаголем, кая ведаем, ниже вся творим, кая можем, ниже всему верим, кая слышим». |
«…не вся, глаголют, творим, елико можем, ниже всему верим, елико слышим, ниже вся глаголем, елико знаем». |
Сравним здесь же указание на источник цитированного изречения в сопоставляемых произведениях, а также ссылку на Аристотеля в еще менее распространенном Послании Карпова митрополиту Даниилу: «нравная философьская учения» («Выпись»), «философское писание» (Послание Максиму Греку), «философ нравоучителны Аристотель» [БЛДР: 352]. Ошибки «Выписи» в названиях афонских монастырей сходны с ошибками в анонимном итинерарии по Афону, предположительно датируемом XVI в. [Ундольский]:
|
Серапонский |
Керапотан |
|
Синопетра / Синопатра |
Кинопетр |
|
Денияцкий / Денисяцкий |
Денисьят |
|
Костомоник |
Костоманик |
Резкая реплика митрополита в адрес афонских монахов, которые, живя во владениях «нечестивого царя», осмеливаются учить князя, находит аналогии в прениях по делу Максима Грека. Тема муссируется и в его собственных сочинениях [Покровский: 111, 118–119], [Максим Грек, 2014: 337]. Известие о том, что Вассиан Патрикеев выступал против второго брака, впервые фиксируется в «Истории» Курбского, написанной не ранее 1570-х гг. [Курбский: 18]. Датировку нашего памятника необходимо коррелировать с датой появления текста, в свою очередь подвергшегося влиянию «Выписи». Таково Послание Корнилия, инока Снетогорского монастыря. Установлено, что в Послании Корнилия, помимо «Выписи», отразилось еще два произведения XVI в. — Послание Максима Грека Карпову о Левиафане и Житие Ефросина Псковского [Охотникова]. Вторичность Послания Корнилия относительно Послания о Левиафане, самый ранний список которого датируется 1590-ми гг. (ГИМ, собр. Чудова мон., № 236), не вызывает сомнений, его взаимоотношения с Житием сложнее. В. И. Охотникова указала на связь Послания с первой редакцией Жития Ефросина, которую вытеснила из обихода редакция Василия-Варлаама. Поскольку последняя была написана в 1547 г., исследовательница датирует «Выпись», использованную Посланием, предшествующими годами. Но, обратившись к приведенным в статье выпискам, видим, что в ряде случаев правильное чтение находится не в Житии, а как раз в Послании
Корнилия (сравнение многоженца с Иудой, пропущенное в Житии, мелкие ошибки: «леота» вместо «люта»). Значит, сочинение Корнилия нельзя ставить в прямую зависимость от первой редакции Жития Ефросина, соответственно, 1547 г. не годится как terminus ante quem 3) для «Выписи». Дистрибуция ошибок может быть объяснена, только если признать, что сравниваемые тексты восходят к общему источнику. Пересмотреть принятую в историографии датировку Послания Корнилия не удалось, по всем показателям его нужно отнести к концу XVI в., а скорее даже к началу XVII в.
К сожалению, указанные текстовые и смысловые параллели не дают точных временных координат для «Выписи», которая, как, впрочем, и Послание Корнилия, не известна в списках ранее XVII в. Неизученной остается и история текста «Выписи». На схеме, приложенной к изданию А. А. Зимина, списки разделены в первом колене на две семьи по вариантам заглавия. Этого, конечно, недостаточно. Предлагаемое в схеме дальнейшее развитие рукописной традиции вообще не подкреплено доказательствами. В поисках примет, какие позволили бы рассчитать, когда и где был написан памятник и каково было его назначение, посмотрим на текст более пристально изнутри. Вопреки устоявшемуся в историографии мнению, наличие в «Выписи» разом двух особенностей — логической противоречивости сюжета и его незавершенности — представляется не случайным. То есть неубедительно мнение, что протограф, лежащий в основе сохранившихся списков, являлся дефектной копией существовавшего будто бы полного архетипа, концовку которого потеряли. Скорее всего, протограф и был архетипом — наброском или неудачным началом работы, прерванной на середине. Заметим: помимо несоответствия заголовка предмету повествования, помимо дискретности сюжета, который иногда объясняли тем, что Паисий неловко сшил автономные изначально произведения, — помимо всего этого, налицо избыточность оканчивающей «Выпись» афонской части в развитии главной идеи автора. Разумеется, афонская часть полностью вымышлена, как и само участие православного Востока в решении бракоразводного казуса. По тексту «Выписи» получается, что святогорские старцы ревниво следили за развитием событий в Москве и были обижены, когда у них забыли проконсультироваться. Однако при обсуждении на местном соборе московского дела выясняется, что, во-первых, старцы не могут выбрать того, кто бы стал рупором их общего мнения, во-вторых, их мнение ничем не отличается от взгляда восточных патриархов, включая Константинопольского. У Василия III не было надобности обращаться к авторитету Афона, так что, в рамках сюжета, нет смысла в афонском эпизоде, а по большому счету — и в «Выписи» в целом, которая, напомним, якобы извлечена из «святогорской грамоты». Похоже, что, отождествив позицию святогорцев с позицией всего восточного духовенства, автор оказался в замешательстве: ему нечего уже было добавить к сказанному, и обрыв «Выписи» является не изъяном, возникшим при переписке, а дефектом первоначального замысла.
Аморфностью структуры не исчерпываются аномалии «Выписи». Сама ее словесная текстура не похожа на языковое оформление других произведений древнерусской литературы и деловой письменности XVI в. Справедливости ради укажем, что при случае автор использует выразительные образы из Библии и других источников (моль, съедающая одежду, уподобление патриархов четырем стихиям, рефрен с образом «большой хоругви» — символе княжеской власти), демонстрирует мастерское владение стилем (ср. на коротком отрезке текста каскад глаголов с приставкой «изо-»: «изнасеяти», «изо-множити», «изобрати», «изьявити», «изобрести», «изознати», «известися»). Но на уровне синтаксиса читатель спотыкается о самые причудливые аграмматизмы. Синтаксический анархизм принимает разные формы: то это всего лишь хаотичное расположение слов, то нарушения в согласовании и в управлении, а иной раз — выстроенные друг вслед за другом слова без всяких попыток установить между ними связи («И нравная философьская учения творити не вся глаголем…» [Зимин: 140]). Значение некоторых разбалансированных фраз скорее угадывается: «И есми в той, государь, в велицей печали, дабы нашего разума чающи от тебе, государя, презрение Святей Горе за наше будет прегрешение» [Зимин: 145]. В списках «Выписи»
содержится довольно много разночтений, но почти все они отражают отчаянные усилия копиистов структурировать предложение, изменив флексии или другие форманты, без чего текст лишен смысла: «И отвеща Васьян великому князю, кроткоумиа (варианты: кроткоумием, краткоумная, краткоумно) и умилена (варианты: умиления, умиленными, умилная, умиленная) словеса сице глаголя» [Зимин: 142]. Создается впечатление, что в создании нашего произведения или на начальном этапе его распространения участвовал человек, не вполне овладевший церковно-славянским языком. Впечатление укрепляется, если мы вспомним об уникальной особенности «Выписи», которая издавна возбуждала интерес читателей и исследователей. По тексту рассеяно довольно много слов, а возможно — и имен собственных на непонятном языке. Некоторые из них тут же «переводятся» «Выписью» в примыкающих к каждому словоупотреблению толкованиях («рекше»), прочие оставлены без объяснений. Тюркологи и другие востоковеды не смогли подобрать универсальный ключ к этой лексике, считается, что ее изобрел сам автор для придания своему писанию восточного колорита. Псевдоварваризмы — не столь уж редкое явление в истории литературы и письменности всех времен и народов, их применяли в магических текстах, в профессиональных диалектах, в макаронических сочинениях, и т. д. Наш случай не такой простой. Находящиеся в «Выписи» экзотизмы относятся к двум разрядам: 1) топонимы или этнонимы; 2) обиходные слова. Слова первого разряда сосредоточены в тех разделах, где автор приводит высказывания представителей восточного духовенства. Тут, хотя и не без оговорок, можно говорить о стилизации, даже несмотря на то, что к отдельным названиям народов удалось найти относительно близкие эквиваленты в турецком языке («хабяши», «ароуны», «тефлизы») [Каган: 232]. Что касается лексем второго разряда, то таковые отыскиваются не только во второй, но и в первой половине «Выписи», при рассказе о событиях, которые разворачивались в Москве. Одно из слов, этимология которого так и осталась нераскрытой («юрдюкеле, рекше православные христиане»), повторяется и в московских, и в восточных сценах произведения. К русской столице явно не подходила словесная декорация с выражениями, несущими в себе couleur locale4) православных центров Востока. Подобные элементы словаря скорее можно приписать стихийному фактору, участию в генерации текста кого-то из чужой языковой среды. В научной литературе указывались признаки, позволяющие думать, что это был грек [Успенский: 147, прим. 6]. Но в таком случае придется допустить, что в дошедшем до нас обличии лексика второго разряда есть продукт порчи, какой подверглась какая-то иноязычная лексика под пером не понимавших ее соавторов или переписчиков.
Вопрос о стихийности появления варваризмов или, если мы все же признаем их искусственное происхождение, — псевдоварваризмов — имеет принципиальное значение для датировки «Выписи», а главное — для характеристики ее как литературного памятника. Рассуждая о поэтике литературы Древней Руси, Д. С. Лихачев предложил термин «нестилиза-ционное подражание», отметив, что подражание сопровождало всю историю словесности, между тем как желание имитировать индивидуальный стиль могло возникнуть только с развитием авторского самосознания [Лихачев: 184–208]. Упражнявшиеся в нестилизационном подражании писатели механически переносят в свой труд фрагменты текста, мотивы, поэтические детали и риторические фигуры из объекта подражания, неизбежно допуская те или иные промахи. Свою мысль ученый иллюстрировал текстом «Задонщины», которую он считал нестилизационным подражанием «Слову о полку Игореве». Если не приравнивать понятие стиля непременно к авторскому стилю, возникающему достаточно поздно, тогда и стилизацию можно усмотреть в более широком спектре явлений. Можно говорить, в частности, о стилизации жанровых форм, на что, кстати говоря, указывали уже оппоненты Лихачева. В любом случае стилизация предполагает определенную ступень в эстетическом развитии, когда стилизатор осознает форму как самостоятельную ценность относительно прагматики произведения и начинает производить с этой формой какие-то эксперименты. Окостеневшие схемы актовой письменност и стали первыми жертвами экспериментов.
В древнерусской литературе полноценные опыты стилизации появляются не ранее последней четверти XVI в., с началом следующего столетия они занимают уже свое законное место в литературном процессе. Опыты преимущественно связаны с историей эпистолографии, но не только с ней. Сошлемся на Азбучный письмовник, резко отличающийся от более ранних коллекций эпистолярных шаблонов отсутствием в нем текстов прикладного назначения [Буланин, 1991: 209–214]. Знаменательно, что и прославленное пародийное Послание Иванца Фуникова сохранилось в списке Азбучного письмовника. Для наших разысканий существенно, что несколько произведений, где обсуждаются русско-турецкие отношения и внутренние порядки в Оттоманской Порте, тоже написаны в виде стилизаций, датирующихся рубежом веков [Waugh: 173–185].
В комической форме воспроизводит протокол статейных списков произведение, условно названное «Повестью о двух посольствах». Если верить запискам Исаака Массы, в XVI в. существовал уже прототип легендарной переписки Ивана Грозного с турецким султаном, в котором пародировались формулы дипломатической переписки. Д. Уо считает не отосланной адресату стилизацией Послание Грозного Стефану Баторию, где, в числе других укоризн, царь напоминает королю, что тот родился в стране, подвластной туркам. Осмелимся включить в этот перечень комплекс сочинений, надписанный именем «затейника» Ивана Пересветова (по выражению Карамзина), надежно датировать который существенно более ранними годами ни у кого до сих пор не получилось. «Выпись» часто сопоставляют с произведениями на турецкую тему рубежа веков. Действительно, в перечисленных памятниках немало общего с нашим, начиная от фиктивности самого сюжета, использования разных форм деловой и учительной письменности (послания, посольские речи, пророчества, легенды), кончая пристрастием к экзотическим реалиям, нередко выдуманным в меру разумения сочинителя. Различия важны не меньше. В произведениях, поднимающих турецкую тему, ясно просматриваются литературные задачи авторов, которые и предопределили выбор форм, эксплуатируемых в стилизациях. Чаще дипломатический формуляр служит прозрачной оболочкой для насмешки, но может использоваться и в апологетических целях, как это видно на примере челобитных Пересветова. В «Выписи» совсем другая картина: как мы видели, откуда она «выписана», непонятно, речи действующих лиц путанные, роли противников брачной эпопеи не продуманны, включенное в текст «послание» святогорцев лишено формальных признаков жанра и быстро переходит в повествование от третьего лица. Если на определенном этапе произведение и задумывалось как стилизация, реализовать такой замысел автору или авторам не удалось. Наше заключение приходится распространить на все составляющие произведения вплоть до слов, напоминающих турецкие. Ясен и ответ на поставленный в заглавии статьи вопрос: «Выпись» не является ни документом, ни стилизацией. Скорее даже так: она отражает начальные шаги в создании стилизации, не увенчавшиеся успехом.
Усматривать в негативной оценке «Выписи» намек на тот период, когда она была составлена, мы поостережемся: уровень стадиального развития плохо поддается хронометражу. Кроме того, художественная критика памятника древнерусской письменности — занятие небезопасное, поскольку непонятны обычно все функции памятника с точки зрения средневекового читателя. Назначение текста никоим образом не исчерпывалось для него положительной информацией, которую можно оттуда получить. На некоторые размышления о восприятии «Выписи» его первыми читателями наводит контекст, в котором она представлена в рукописных сборниках. Первое, что бросается в глаза при обращении к рукописям, — широкое распространение, каким пользовался наш памятник: Зимин учитывает около двух десятков списков, ими рукописная традиция явно не исчерпывается. Наши претензии к составителям текста, изъяны которого, как видно из разночтений, не были секретом для старых копиистов, не мешали им считать его доброкачественным сообщением о важных эпизодах русской истории. Полный текст «Выписи» или выдержки из нее охотно вставляются в серьезные исторические и хронографические компиляции, ставятся рядом с манифестами государственного значения, с хождениями и итинерариями, и др. «Выпись» оказала влияние на позднюю редакцию «Истории»
Курбского. Важно вот что: с литературными стилизациями на турецкую тему книжники обращались таким же манером, как с «Выписью». Стилизации, пародии и апологии переписывались как серьезные рассказы о прошлом. По-видимому, средневековый начетчик ценил подобные тексты, в том числе «Выпись», не за насыщенность фактами и их достоверность, а за саму причастность описываемых в этих текстах событий к ходу провиденциальной истории, которая показывала участие Творца в судьбах человеческого рода. Окружение «Выписи» в сборниках позволяет прийти и к другим выводам: чаще всего с ней соседствуют статьи из афонского цикла, путеводители по Святой Горе, легенды о начале монастырской колонии, об афонских святынях. Представляя собой часть афонской серии, «Выпись» притягивала к себе и тексты, связанные с биографией Максима Грека, хотя в самом произведении ученый старец упомянут только один раз, а его позиция в бракоразводном процессе четко не артикулирована. Быть может, в нереализованных планах автора Максим Грек играл более важную роль — не случайно, по сообщению «Выписи», афонские иноки сходятся на местный собор в Ватопедском монастыре, откуда прибыл на Русь знаменитый писатель. Этого оказалось достаточно, чтобы рядом с «Выписью» в сборнике РНБ, собр. Погодина, № 1597 поместили «Судные списки» с прениями Максима на московских соборах 1525 и 1531 гг. и еще один текст, воспринимавшийся как подлинная запись конфессионального спора (Прение Грозного с Яном Рокитой). «Выпись» была интегрирована в наиболее пространное Житие Максима Грека, написанное Симеоном Моховиковым; наконец, она включалась в поздние собрания сочинений святогорца.
Приняв во внимание набор отразившихся в «Выписи» посторонних текстов, общие черты с произведениями турецкой тематики, «конвой» памятника в рукописях, мы с большей уверенностью отнесем его к последним деcятилетиям XVI в. Локализировать его гораздо труднее. В свое время автор этих строк высказал предположение, что «Выпись» сочинена на Псковщине [Буланин, 2012: 594]. Не отказываясь от этой идеи, позволим себе указать на другие центры восточнославянской культуры, у которых не меньше шансов считаться местом рождения нашего памятника. Первым назовем Чудов монастырь, где, в те самые годы, к которым мы приурочили «творение Паисеино», обсуждалась легитимность правления только-только почившего Грозного царя [Буланин, 2021: 31–32]. Монастырь считался приличным местом для приезжавшего в столицу восточного духовенства, тут кипела работа по распространению наследия Максима Грека и проводились мероприятия для его посмертной реабилитации, тут извлекались на свет остатки архива Федора Карпова. Вторым номером поставим совокупность тех книжных центров в Литовской Руси, где развернули свою деятельность местные ревнители православия. К наследнику Василия III они не питали верноподданнических чувств, у них были свои, независимые от Москвы связи с Афоном; в Литве, в особенности в окружении Курбского, с большим пиететом относились к Максиму Греку и вложили свою лепту в сохранение его писаний. Под патронажем Курбского были переведены прения с сарацинами Геннадия Схолария и Иоанна Дамаскина, что говорит о злободневности турецкой темы. Изданные в Вильно, переводы быстро преодолели границу и вошли в очередное собрание трудов Максима Грека. Выбор одного из наших предложений (Псковщина, Чудов, Литва) не отменяет другие, потому что книжный обмен между православными грамотеями в двух государствах никогда не замирал, Чудов монастырь служил главными воротами для западнорусских книг, а псковские земли традиционно выступали посредниками в русско-литовских культурных связях. То есть в судьбе текста могли участвовать все три локации — вместе или порознь.
Размышления над текстом «Выписи» имеют и некоторое методологическое значение для изучения древнерусской литературы. Мы убеждаемся, что историк словесности обязан в своих построениях считаться с приоритетами самих носителей средневековой культуры. Второстепенные с современной точки зрения и явно ущербные в художественном отношении писания, вроде «творения» никогда не существовавшего Паисия, оказываются при ближайшем рассмотрении важнейшими компонентами в репертуаре памятников, которые определяли литературное развитие целой эпохи. В нашем случае — это промежуток времени между смертью Ивана Грозного и началом Смуты.
Список сокращений
БЛДР — Библиотека литературы Древней Руси
ГИМ — Государственный исторический музей
РНБ — Российская национальная библиотека
Список литературы "Выпись" о втором браке Василия III - документ или литературная стилизация?
- Библиотека литературы Древней Руси: в 20 т. СПб.: Наука, 2000. Т. 9. 568 с.
- Бодянский О. М. Выпись из государевы грамоты, что прислана великому князю Василию Ивановичу // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1847. № 8. С. I-II+1-8.
- Буланин Д. М. Античные традиции в древнерусской литературе XI-XVI вв. München: Verlag Otto Sagner, 1991. 466 с.
- Буланин Д. М. Опыт комплексного описания: Афон в древнерусской письменности до конца XVI в. // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. Вып. 2. Ч. 1. С. 427-763.
- Буланин Д. М. На пути к архиву Федора Карпова: Следы в Чудовом монастыре? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2021. Т. 18. № 1. С. 18-36.
- Герберштейн C. Записки о Московии / пер. с нем. М.: Изд-во МГУ, 1988. 430 с.
- Зимин А. А. Выпись о втором браке Василия III // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1976. Т. 30. С. 132-148.
- Каган М. Д. Повесть о втором браке Василия III // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 230-233.
- Карамзин Н. М. История государства Российского: в 12 т. 2-е изд. СПб.: Тип. Н. Греча, 1819. Т. 7. 235+109 с.
- Курбский Андрей. История о делах великого князя Московского. М.: Наука, 2015. 942 с.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М.: Наука, 1979. 360 с.
- Максим Грек, прп. Сочинения. М.: Индрик, 2008. Т. 1. 568 с.
- Максим Грек, прп. Сочинения. М.: Индрик, 2014. Т. 2. 432 с.
- Никитин А. Л. Соломония Сабурова и второй брак Василия III // Никитин А. Л. Основания русской истории: мифологемы и факты. М.: Аграф, 2001. С. 586-628.
- Охотникова В. И. Послание Корнилия, инока Снетогорского монастыря: к вопросу о времени создания // Slovene. 2015. Т. 4. № 1. С. 334-347.
- Покровский Н. Н. Судные списки Максима Грека и Исака Собаки. М.: Главное архивное управление, 1971. 192 с.
- Тихомиров М. Н. К вопросу о Выписи о втором браке царя Василия III // Сборник статей в честь А. И. Соболевского. Л.: Академия наук СССР, 1928. С. 91-94.
- Ундольский В. М. О святогорских монастырях // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1846. № 4. С. 35.
- Успенский Б. А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. 680 с.
- Waugh D. The Great Turkes Defiance: On the History of the Apocryphal Correspondence of the Ottoman Sultan in its Muscovite and Russian Variants. Columbus, Ohio: Slavica Publ., 1978. 354 p.