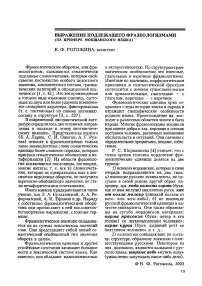Выражение подлежащего фразеологизмами (на примере мокшанского языка)
Автор: Рогожина В.Ф.
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3-4, 2003 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14718536
IDR: 14718536
Текст статьи Выражение подлежащего фразеологизмами (на примере мокшанского языка)
В. Ф. РОГОЖИНА, ассистент
Фразеологическим оборотом, или фразеологизмом, называются семантически неделимые словосочетания, которым свойственно постоянство особого целостного значения, компонентного состава, грамматических категорий и определенной оце-ночности [1, с. 41]. Это воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух или более ударных компонентов словарного характера, фиксированная (т. е. постоянная) по своему значению, составу и структуре [3, с. 227].
В современной лингвистической литературе определилось два основных направления в подходе к этому лингвистическому явлению. Представители первого (Б. А. Ларин, С. И. Ожегов, А. Г. Руднев) относят к фразеологизмам только такие эквивалентные слову семантические единицы более сложного порядка, которым присущи семантические обновления и ме-тафоризация [2]. Из области фразеологии исключаются пословицы, поговорки, многие цитаты, т. е. все те словосочетания, которые не превратились еще в лексически неделимые обороты, не получили переносно-обобщенного значения, не стали метафорическими сочетаниями.
Иного мнения придерживаются такие ученые, как Л. А. Булаховский, А. А. Реформатский, А. И. Ефимов и др. Наряду с собственно фразеологическими оборотами они причисляют к ней пословичнопоговорочные выражения, сложные термины.
Фразеологическое значение складывается не из суммы лексических значений слов. Оно представляет собой новый семантический обобщенный тип значения оборота в целом.
Фразеологические единицы и другие устойчивые сочетания занимают большое место в лексической системе языка. Как известно, они обладают идиоматичностью и экспрессивностью. По структурно-грамматическим особенностям это именные, глагольные и наречные фразеологизмы. Именные по значению, морфологическим признакам и синтаксической функции соотносятся с именем существительным или прилагательным, глагольные — с глаголом, наречные — с наречием.
Фразеологические единицы ярко сохраняют следы истории языка и народа и отражают специфические особенности родного языка, Происхождение их восходит к различным областям жизни и быта народа. Многие фразеологизмы возникли при оценке добра и зла, хороших и плохих поступков человека, различных жизнеш1ых обстоятельств и ситуаций. Они связаны с определенными предметами, вещами, событиями.
Р С. Ширманкина [4] считает, что с точки зрения генезиса мордовские фразеологические единицы делятся на две группы:
-
1) исконно мордовские, которые в свою очередь подразделяются на два типа: а) имеющие русские эквиваленты, но несущие в своей основе другой образ: например, эрз. кода калъстэ сэрят (букв, как от ивы желуди) аналогично русск. как от козла молока (никакой пользы от кого- или чего-либо); б) не имеющие русской фразеологической единицы в качестве эквивалента. Опи также образованы на сугубо мордовском материале: варма прясонза (букв, ветер в его голове) ^о легкомысленном человеке»; варяв курга (букв, дырявый рот) «о болтливом человеке» и т. д.;
-
2) полностью совпадающие по составу, структуре, образному значению с соответствующими русскими. Некоторые из них, возможно, являются кальками с русского языка: шорямс ведь «-мутить воду» (умышленно запутывать какое-либо дело).
Мордовские фразеологические единицы в зависимости от образования делятся на следующие группы: а) устойчивые,^ метафорические сочетания; б) фразеологические единицы с изобразительными словами; в) устойчивые сравнения; г) устойчивые эллиптические сочетания фразеологического характера; д) фразеологические единицы междометного характера (эмоционально-экспрессивные выражения).
В мокшанском языке в роли подлежащего встречаются устойчивые метафорические сочетания, которые представляют собой составные названия, переносящиеся с одного предмета или явления па другой предмет или явление на основе сходства признаков. В метафорических фразеологических единицах все компоненты или часть из них употребляются в переносном, иносказательном значении. В процессе исторического развития такие сочетания слов закрепляются за каким-либо предметом или явлением, становятся воспрозво-димыми. Так, для сердечных, добрых, чутких людей закрепилось название ляпе се-Эихне (букв, мягкое сердце), которое указывает только на положительные качества человека: Ляпе седихне аньцек сельмоветть путеръфнихть (Мокша I, с. 35). «Мягкосердечные только слезы льют». Завистливых людей характеризуют как пеенъ порихне и нолга тулот-не (букв, зубы грызущие и сопливые затычки), что выражает их отрицательные качества: Катк сембе няйсазъ, коза серъ-глдезъ Мулевтъ, катк каяйхтъ сельме пеенъ порихне и нолга тулотне (Мокша П, с. 27). «Пусть все увидят, куда забрали Мулева, пусть завидуют завистники (букв, те, которые грызут зубы) и сопляки».
Необходимо отметить, что фразеологизмы, как и отдельные слова, имеют морфологические формы, могут выступать в предложении в определенной синтаксической функции. Чаще всего в роли подлежащего используются устойчивые метафорические сочетания, состоящие из конструкций:
-
1) прилагательное + существительное:
-
а) качественное прилагательное + существительное в форме именительного падежа множественного числа определен-
- него склонения: Ёню прятне тянь шаръх-кодезъ и тяряфнестъ мезе-бди тиемс (Мокша I, с. 35). «Мудрые (букв, умные головы) это поняли и пытались что-то сделать»; Пси прятне куликска аф ти-ихть (Мокшони, с. 46). «Горячие головы и ухом не ведут (не слышат)»;
-
6) качественное прилагательное + существительное в форме отложительного падежа основного склонения: Конаксъ стакаста куфкстсъ: «Мезевок аф таят, Сидор Афанасьевич! тяфта эряви, калъ-дяв сельмода лама заводясь» (Виард, с. 4). «Гость тяжело вздохнул: „Ничего не поделаешь, Сидор Афанасьевич, так нужно, негодных людей (букв, плохих глаз) много завелось"»;
-
в) относительное прилагательное + существительное в форме именительного падежа единственного числа определенного склонения: Локшеса кероманъ пинень седисъ (Мокшони, с. 56). «Кнутом меня ударил собачья морда»; Кочетков якась тише ваять перъфке, шупсезе, ёразе содамс, мзяра ули эсонза, мзяра сатоль алашатненди, кда вага тя воронь селъ-мосъ афолъхце плетя (Бебан, с. 15). «Кочетков ходил вокруг копны сена, щупал ее, хотел узнать, сколько в ней будет, насколько хватило бы лошадям, если бы вот этот воришка (букв, воровской глаз) не увез сено»;
-
г) относительное прилагательное + существительное в форме именительного падежа множественного числа: Да кинь лангс кеподезъ ня тувонъ няръхне кядь-снон (Сайгин, с. 219). «Да па кого руку подняли эти свиньи (букв, свиньи рыла)»;
-
д) относительное прилагательное + существительное с лично-притяжательным суффиксом -ц: Варламов цють няяеви-ста пеедезевсъ, но эстокиге кяшезе пе-едеманц, видемсь креслатъ лангс, неже-дезень моркштъ лангс кенерензон, учсь, мезе азы. сонь «види кядец» (Ларионов, с. 15). «Варламов чуть заметно улыбнулся, но тотчас стал серьезным, выпрямился в кресле, положил локти на стол, ждал, что скажет его „правая рука"»;
-
2) существительное + субстантивированное причастие:
-
а) существительное в родительном
падеже + субстантивированное причастие в форме множественного числа; Мезенк-са ни тяшкава наругадязъ веронъ пи-дихне (Сайгин, с. 160). «Из-за чего надругались над тобой кровопийцы (букв, кровь варящие)»;
-
6) существительное в отложительном падеже 4- субстантивированное причастие в форме единственного числа: Авдю мяръгсъ: «Тя верда потяйсъ сивсамазъ сембонъ* (Кирдяшкип, с. 14). «Авдю сказал: „Этот кровопийца (букв, кровь сосущий) съест нас всех"»;
-
в) существительное в форме родительного падежа + субстантивированное причастие в единственном числе: «Эрьк-стафтозе шабашь веронъ пидисъ». — пшкяЭсъ сире ава (Сайгин, с. 160). «„Заморозил ребенка кровопийца “, — сказала старая женщина»;
-
г) существительное в форме родительного падежа + субстантивированное причастие в форме множественного числа с лично-притяжательным суффиксом -нза: Народоц фкявок валнянцты изъ веранда, анъуек пулонъ канниенза ёладастъ ёжу келазъкс (Мокша II, с. 132). «Его люди ни одному его слову не верили, только подлизы (букв, те, которые его хвост носят) вертелись возле него»;
-
3) прилагательное + причастие:
прилагательное + субстантивированное причастие с лично-притяжательным суффиксом -нза: Кие содасы, пади, тя-ниевок салаванъ кисъкоряенза мезе-мезе тошкастъ колганза Верховнайти (Кудашкин, с. 170). «Кто знает, может быть, и сейчас его тайные недоброжелатели что-нибудь сказали начальнику»;
-
4) существительное + прилагательное + причастие:
собственное существительное в форме родительного падежа + прилагательное + субстантивированное причастие с лично-притяжательным суффиксом -ц: Пяш-тельмов учсъ, мезе азы Варань салавань сускиец, Янкин (Бебан, с. 18). «Пяштельмов ждал, что скажет Варварин враг (букв. Варварин тайком кусающий), Янкин»;
-
5) местоимение + наречие + субстантивированное причастие в форме единственного числа определенного склонения:
местоимение в форме родительного падежа + наречие + субстантивированное причастие: Илянъ алу шувисъ пуропни перьфканза илянъ сялдыхтъ, эсь кондя-монза илянъ алу шувихтъ (Бебан, с. 77). «Вредный человек (букв, копающий под другого) собирает вокруг себя других, подобных себе».
В функции подлежащего в мокшанском языке также встречаются фразеологические единицы междометного характера (эмоционально-экспрессивные выражения). Они выражают различные эмоции, переживания, ощущения, волеизъявления человека и в большинстве своем восходят к заклинаниям; Праулкава ётасъ инголь-ганза раежа ката. ^Тъфу\ Ниже прахсъ сяволензе>, — селъгсъ Макар (Бебан, с. 18). «По переулку перед ним прошла черная кошка. „Тьфу! Черт (букв, зеленый прах) бы тебя побрал*1, — плюнул Макар»; Аф пара морсъ лангат ёталь (разг.). — Пожелание недоброго кому-либо (букв, нехороший мор по тебе прошел бы).
Оскорбления являются ярким примером аффективов и содержат в семантике эмоциональный аспект оценки. В них отражается субъективное отношение говорящего к объектам или субъектам и их свойствам. Например, слова сире карга, сире морсъ, сире клдом, сире кранч «старый хрыч, старый черт», лима-сюносъ «негодяй» имеют грубые негативные значения. Они свидетельствуют об оценочно окрашенном восприятии говорящим объекта, передают отрицательные эмоции человека: Катк сире морсъ содасы — мота аф ленгаса стафан (Мокша III, с. 132). «Пусть старый черт знает — и я тоже не лыком шит»; Кулине, кода на* ругасы Машатъ лима-сюносъ, и ашень кирде, тунъ ширезост (Мокша IV, с. 82). «Слышал, как опять издевался негодяй над Машей, и я не выдержал, пошел к ним»; Шабразе, Антип атя, озаф валъмалонза шочконя лангс, качафты ёжу сире крансъ, ванфтсъ махорканя (Мокша III, с. 66). «Сосед мой, дед Антип, сидит на бревне перед окном, курит старый черт, сберег махорочку».
В заключение следует заметить, что фразеологические единицы мокшанского языка, подобно таким системам в других языках, могут представать как готовые формы мысли или создаваться в потоке речи в определенном контексте и соответствующей ситуации. В каждом случае они являются средствами усиления выразительности языка в речевом общении. Из приведенных примеров видно, что подлежащее в мокшанском языке может выражаться фразеологическими сочетаниями, которые состоят чаще всего из двух компонентов.
Список литературы Выражение подлежащего фразеологизмами (на примере мокшанского языка)
- Валгина Н. С. Современный русский язык/Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина. М.: Высш. шк., 1987. 480 с.
- Руднев А. Г. Синтаксис простого предложения. М.: Учпедгиз. 1960. 170 с.
- Федотова В. П. Фразеологизмы в карельском языке//Вопросы финно-угроведения. Саранск, 1975. Вып. 4. С. 227 -231.
- Ширманкина Р. С. Фразеологический словарь мордовских языков. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1973. 224 с.