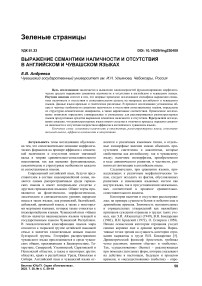Выражение семантики наличности и отсутствия в английском и чувашском языках
Автор: Андреева Е.В.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Зеленые страницы
Статья в выпуске: 4 т.20, 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования заключается в выявлении закономерностей функционирования морфологических средств выражения семантики наличности и отсутствия в английском и чувашском языках. Научная новизна состоит в том, что впервые проведено исследование специфики выражения семантики наличности и отсутствия в сопоставительном аспекте на материале английского и чувашского языков. Данные языки ареально и генетически различные. В процессе исследования установлены общие и частные особенности семантики наличности и отсутствия сопоставляемых языков, определены их структурно-семантические инварианты, а также вариативные соответствия. Проведенное исследование позволило определить универсальные и уникальные для рассматриваемых разноструктурных языков продуктивные средства выражения семантики наличности и отсутствия. В результате исследования доказано, что разноструктурные языки имеют сходства и отличия в процессе передачи семантики наличности и отсутствия посредством аффиксов в английском и чувашском языках.
Семантика наличности и отсутствия, разноструктурные языки, сопоставительный анализ, аффиксы наличности и отсутствия
Короткий адрес: https://sciup.org/147242210
IDR: 147242210 | УДК: 81.33 | DOI: 10.14529/ling230409
Текст научной статьи Выражение семантики наличности и отсутствия в английском и чувашском языках
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сопоставительное описание морфологических формантов на примере аффиксов с семантикой наличности и отсутствия вносит значимый вклад в теорию сравнительно-сопоставительного языкознания, так как выясняет функциональные, семантические и структурные особенности каждого из сопоставляемых языков.
Современный английский язык, будучи представителем в составе индоевропейской семьи, является самым распространённым среди германских языков и имеет материальное сходство с другими германскими языками. Общие черты проявляются на фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях иерархии языка в таких языках, как романский, балтийский, албанский, армянский языки, а также с некоторыми мертвыми языками, которые также относятся к индоевропейским языкам. Чувашский язык «чӑваш чӗлхи» является национальным языком чувашей и государственным языком Чувашской Республики. В генеалогической классификации языков мира относится к тюркской группе алтайской языковой семьи и является единственным живым языком булгарской группы. География распространения чувашского языка прослеживается в среде чувашских общин, проживающих в Башкортостане, Татарстане, Самарской, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областях, а также в некоторых других областях, краях и республиках Урала, Поволжья и Сибири. Английский язык и чувашский языки от- носятся к различным языковым типам, а отдельные изоморфные явления можно объяснить присутствием синтетизма и аналитизма, которые свойственны как английскому, так и чувашскому языку; наличием изоморфизма, приобретенного в ходе динамического развития, в частности, развития агглютинации в английском языке.
Следовательно, при сравнении языков, принадлежащих к различным морфологическим типам, следует исходить из фактов, обусловленных развитием и изменением языковых систем как внутри языка, так и при установлении межъязыковых соответствий в процессе сравнительносопоставительного анализа.
Категория наличия и отсутствия рассматривалась на примере сущности бытия и небытия еще в древнейшие времена. Значимость положительных и отрицательных утверждений как важнейших признаков суждения отражена в трудах таких ученых, как Э.И. Айзенштадт (1949), В.Н. Бондаренко (1983), И.Н. Бродский (1973), О. Есперсен (1958). Начало осмысления категории отрицания уходит своими корнями еще в древние времена. Вариативные точки зрения на сущность категории отрицания выражены в труде В.Н. Бондаренко [5]. Древнегреческий философ Аристотель требовал четко различать понятия «бытие» и «небытие». Так, «существование» (бытие) – реализующееся при помощи глагольных форм, которые указывают на действие в настоящем, будущем и прошлом времени, и «несуществование» (небытие) – опре- деляемое как «человек есть» и «человек не есть». Анализ понятий «бытие» и «небытие» в суждении впервые указал на необходимость дифференциации времени в суждении. При этом утверждение и отрицание, согласно Аристотелю, представляют собой понятийные категории, и он относит их к «полаганию мыслимого существующим или несуществующим. Утверждать - значит говорить, что данный предмет (или признак) существует; отрицать - значит говорить, что данный предмет (или признак) не существует, не имеет места в действительности», «всякое суждение, в котором всегда нечто отрицается или утверждается о чем-либо, имеет основу в действительности, и эта действительность может быть выражена (явно или неявно) как в утвердительном, так и в отрицательном суждении» [4, с. 103]. Также сущность отрицательных суждений раскрывает И.Н. Бродский. Особенность оппозиции наличия - отсутствия заключается в следующем: «В содержании суждения отношения принадлежности (наличия) или непринадлежности (отсутствия) признака предмету мысли не является отличительной особенностью всякого суждения, ибо указанное отношение имеет место и в понятиях, и оно не свойственно таким формам мысли, как вопросу и побуждению», в «действительности предмета с определенными признаками, а не просто мысль о связи одного с другим», «отрицательные категорические суждения типа «S не есть Р» отражают различные виды отсутствия, лишенности, неприсущности, непринадлежности, несуществования признака Р (свойства, действия, состояния, отношения и т. п.) у предмета мысли S. Отсутствие, лишенность и тому подобные объективные обстоятельства иногда объединяют в категорию небытия» [6, с. 58– 59]. И.Н. Бродский, поддерживая утверждения Аристотеля, умозаключает, что «отрицательное суждение есть форма отражения (и познания) небытия именно определенного предмета или определенного признака. Знание о небытии чего-либо возникает как осознание или установление либо различия, либо несовместимости чего-либо в чем-то, либо отсутствия чего-то, либо ложности мысли о бытии (наличии) чего-либо» [4, с. 103]. Итак, во-первых, отрицательные связи в предложении, согласно мысли Аристотеля, могут быть интерпретированы при помощи логических понятий, однако логическое выражение отрицательных связей не всегда совпадает с целями языкового выражения отрицания. Первыми, кто ввел в лингвистику понятие разъединенности, были Э.И. Айзенштадт и Е.М. Галкина-Федорук. По мнению ученого Э.И. Айзенштадт, «отрицание в языке есть выраженное системой языковых средств разделение явлений реальной действительности» [3, с. 30]. Из этого следует, что мы разъединяем в сознании то, что разъединено в действительности. Авторы склоняются к тому, что грамматическое и логическое отрицание эквивалентны, однако домини- рующая функция разъединенности принадлежит грамматическому отрицанию, которое указывает на отсутствие связи между предметами и их признаками в самой действительности. В трудах О. Есперсена отмечено, что «утверждение и отрицание выражают абсолютную уверенность говорящего соответственно в наличии и отсутствии чего-либо» [7]. В трудах отечественного лингвиста В.Г. Адмони утверждение и отрицание представлены как формы, выражающие модальные значения: «утверждение и отрицание суть выражения соответственно реальности и нереальности отражаемых в предложении связей и явлений действительности», где «утвердительные и отрицательные предложения различаются не по содержанию выражаемых в предложении отношений объективной действительности как таковых, а по своему модальному характеру, по оценке реальности этих содержаний» [1, с. 163–164]. В.Г. Адмони дополняет, что такие модальные значения, как сомнение, вероятность придают предложению дополнительные оттенки, которые ослабляют положительный или отрицательный характер сообщаемого. Данным утверждением он соглашается с трехчленной схемой отрицания О. Есперсена.
Так, высказывание А.С. Азаманова справедливо обобщает мысль предыдущих авторов: «...и утверждение, и отрицание имеют общее, что и в том, и в другом случае мысль является решением познавательной задачи, полаганием существования или несуществования чего-либо в действительности, «...» утверждение и отрицание чего-либо о предмете признаются видами одной и той же формы мысли, называемой суждением» [2, с. 147]. Сопоставительное описание аффиксов со значением наличности и отсутствия благоприятствует адекватному пониманию и использованию данных морфологических формантов в процессе передачи аналогичной семантики с английского на чувашский язык. Объектом исследования служат морфологические составляющие с семантикой наличности и отсутствия в двух языках. Предметом исследования являются морфологические характеристики языковых структур, посредством которых выражается значение наличности и отсутствия в двух языках.
Цель исследования предопределила постановку следующих задач :
-
1) проанализировать функционирование средств выражения значения наличия и отсутствия в двух языках;
-
2) установить общие и специфические характеристики структурных разновидностей семантики наличности и отсутствия в сопоставляемых языках.
В качестве фактического материала исследования послужили оригинальные художественные произведения английского автора О. Уайльда «Fairytales» (Wilde O. Fairy Tales / O. Wilde. -М.: Прогресс, 1979. - 212 с.) и их перевода на чуваш- ский язык Б. Чиндыковым «Тĕлĕнтермĕш юмахсем» (Уайльд О. Тĕлĕнтермĕш юмахсем / О. Уайльд. – Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 1986. – 127 с.), Р. Киплинга «The First Jungle Book: stories» (Kipling R. The First Jungle Book: stories / R. Kipling. – M.: Юпитер-Интер, 2003. – 188 с.) и его перевод на чувашский язык Манял «Маугли» (Киплинг, Р. Маугли / Р. Киплинг; пер. Манял. – Чебоксары: Чувашиз-дат,1936. – 302 с.), также чувашский роман автора Д.А. Кибек «Кайӑк тусӗ» (Кибек Д.А. Кайӑк тусӗ: роман / Д.А. Кибек. – Шупашкар: Чӑваш кӗн. изд-ви, 2008. – 383 с.), онлайн-словарь английского языка (Cambridge Dictionary: [сайт]. – Cambridge. – URL: .
Теоретической основой исследования послужили труды:
-
• по сопоставительному языкознанию – В.Д. Аракина, Дж. Буранова, В.Г. Гака, Е.Д. Поливанова, В.Н. Ярцевой;
-
• общему языкознанию и семантике – Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Н.А. Васильева, В.В. Виноградова, Л.М. Владимирской, В.Л. Ибрагимова, С.Д. Кацнельсона, Е.В. Падучевой.
Для решения поставленных задач был использован комплекс методов исследования :
-
– теоретический анализ научно-методической литературы по рассматриваемой проблеме;
– методы концептуально-грамматического анализа, включающие в себя как характеристику языкового материала с реферированием научных работ, так и аналитическую оценку научных понятий и решений в реферируемых работах;
-
– описательный метод, реализующийся при интерпретации языкового материала;
-
– метод сплошной выборки;
-
– сравнительно-сопоставительный анализ выражения семантики наличности и отсутствия в двух языках.
Практическая значимость заключается в том, что результаты проведенного исследования позволяют обогатить имеющийся материал в области сопоставительного языкознания, типологической лингвистики и переводоведения, поскольку анализ семантики наличности и отсутствия на материале разноструктурных языков дает возможность установить функциональные особенности, а также выявить специфические закономерности при передаче данной семантики с английского языка на чувашский язык.
Обсуждение и результаты
Фактическим материалом, послужившим основанием для сопоставительного исследования, являются аутентичные примеры из английской и чувашской художественной литературы. Методом сплошной выборки было отобрано свыше трех тысяч примеров, на основе которых создана авторская картотека. В работе исследуется в основном письменная форма современного английского и чувашского языков.
В английском языке аффиксы со значением наличности образуют от именных основ имена прилагательные посредством суффиксов – ful и - ous , например, grace – grace + ful , dread – dread + ful , hope – hope + ful , peace – peace + ful , danger – danger + ous , humor – humor + ous , fame + ous / изящество – изящный, страх – страшный, надежда – надежный, мир – мирный, опасность – опасный ( Здесь и далее перевод выполнен автором статьи. – Е.А. ) . Имена существительные образуют имена прилагательные при помощи суффикса -ness , например, happy + ness , sad+ ness, nerv-ous+ness, kind+ness, selfish+ness / счастливый – счастье, печальный – печаль, нервный – нервозность, доброта –добрый, эгоистичный – эгоизм.
Рассмотрим на примерах из английских источников иллюстративного материала: «Her latest book is a humorous look at teenage life» (Cambridge Dictionary: [сайт]. – Cambridge. – URL: https://dictionary. / «Ее последняя книга представляет собой юмористический взгляд на жизнь подростков»; «She hoped the different ethnic groups in the area could live together in peaceful co-existence» (Cambridge Dictionary: [сайт]. – Cambridge. – URL: https://dictionary. / «Она надеялась, что различные этнические группы, преобладающие на данной территории, могли рассчитывать на мирное сосуществование»; «Our children have brought us so much happiness» (Cambridge Dictionary: [сайт].– Cambridge.–URL: / «Наши дети принесли нам столько счастья»; «I think her kindness is one of her strong points» (Cambridge Dictio-nary:[сайт]. – Cambridge. – URL: / «Самая сильная ее сторона – это доброта».
В сопоставляемом чувашском языке наличествует аффикс - лă ( - лĕ ), который образует от имен существительных прилагательные с семантикой наличности, например, йĕп «игла; колючка» – йĕп+ лĕ [9, с. 18] «колючий; придирчивый»: «Ун-тан тӑрса тумланчӗ, вырӑнне пуҫтарчӗ, пит-куҫне пӑрлӑ шывпа ҫурӗ те ирхи апата ларчӗ» (Кибек, 2008). / «После этого встал, оделся, заправил постель, обмыл лицо ледяной водой и начал завтракать»; «Ӑҫтан тупрӑр ҫавӑн пек йӗплӗ чӗлхене ? – кулса ячӗ Вишневский» (Кибек, 2008, с. 141). / «Откуда же вы нашли такого грубого ? – засмеялся Вишневский»; Пӗрре унӑн арӑмӗ кӗпе ҫунӑ чух вакка шуса кайнӑ та пӑрлӑ шыва путса вилнӗ (Кибек, 2008, с. 216). / «Однажды, стирая вещи, его жена поскользнулась в прорубь и утонула в ледяной воде ».
К тому же в чувашском языке аффикс -лă (-лĕ) является формообразующим средством не только имен прилагательных, он также участвует в образовании имен существительных и наречий с семантикой наличности какого-то качества или признака. По этой причине стоит различать аффикс имен прилагательных и формант имен существи- тельных, так как прилагательные могут принимать аффиксы категории компаративности -рах (-рех), которая признается главной категориальной формой прилагательных [9, с. 84].
Имена существительные с семантикой наличности образуются при помощи аффикса - лă ( - лĕ ) [8, с. 18]. В отличие от прилагательных, существительные с аналогичным аффиксом могут принимать аффиксы выделения на - и , -сер и аффикс множественного числа - сем [8, с. 86]. Стоит отметить, что отличительным признаком в чувашском языке является то, что существительные на – лă ( - лĕ ) могут функционировать самостоятельно, например, ăс лă «умник» и йĕп лĕ «колючка», следовательно, характеризовать качества человека.
Английский суффикс -less образует от существительных имена прилагательные, выражающие семантику отсутствия какого-либо признака или предмета, и противопоставляется по семантике суффиксам наличности - ful и - ous , например, care – care + less, hope – hope +less, hair – hair +less, power – power + less / забота – беззаботный, надежда – безнадежный, волосы – лысый, мощь – немощный.
Рассмотрим на аутентичных примерах из английского языка: « Kaa, his head motionless on the ground, thought of all that he had seen and known since the day he came from the egg » (R. Kipling, 2003, p. 167) / «Каа неподвижно лежал на земле и думал обо всем, что он видел и знал с того дня, как появился на свет»;
« Built in the shadow of the windless gorge , and huge masses of spongy, rotten trash had rolled down and stuck among the trees and creepers that clung to the rock–face » (R. Kipling, 2003, p. 169) / «Он был построен в тени безветренного ущелья: огромные массы губчатого, гнилого мусора скатывались вниз и застревали среди деревьев и ползучих растений, прижавшихся к скалистому склону».
Отрицательная форма имен существительных с аналогичной семантикой образуется при помощи предлога without , например, I left without my um brella «я вышел без зонта», You look nice without make-up «Тебе лучше без макияжа».
В сопоставляемом чувашском языке существует аффикс -сăр ( -сĕр ), который функционально следует различать. В случае, если формант -сăр ( -сĕр ) можно противопоставить аффиксу - па, будучи аффиксом творительного падежа, то он является аффиксом лишительного падежа, например, трактор сăр – трактор па [8, с. 139]. В остальных случаях аффикс -сăр ( -сĕр ) является лишительным аффиксом, то есть аффиксом со значением отсутствия какого-либо признака или предмета.
Примечательно, что -сăр (-сĕр) выступает как падежный при именах существительных и словообразовательный при именах прилагательных, в этом и заключается его полифункциональность: «Чăнах та, пирĕн те çухатусăр пулмарĕ» (Кибек, 2008, с. 37 / «Правда, и у нас не обошлось без потерь», где -сăр является лишительным аффиксом; «Хӗрсене сӑнсӑр, уксах-суккӑр, курпун е чӑлах тӑвас килнӗ» (Кибек, 2008, с. 10) / «Девушкам хотелось быть безобразными, хромыми, горбатыми или уродливыми», где -сăр является аффиксом лишительного падежа, так как можно сказать в творительном падеже сăн + па.
Изучив языковые факты из грамматики английского и чувашского языков, целесообразно провести их сопоставительный анализ передачи семантики наличности и отсутствия признака качества на примерах из оригинала художественной литературы и ее передачи с английского на чувашский язык:
« He saw a most wonderful sight » (R. Kipling, 2003, с. 48). / « Чăн та, асамлă ÿкерчĕк курăннă вăл » (Киплинг Р., 1936, с. 26). / «Действительно, он увидел самую красивую картину»; « But I am afraid I shall never have such beautiful ideas as you have » (O. Wilde, 1979, p. 63) / « Анчах сирĕнни пек илемлĕ шухăшсем манăн пуçа нихăçан та килмес-рен хăратăп эпĕ » (Уайльд О., 1986, с. 37). / «Я никогда не смогу так красиво выражать свои мысли, как вы»; « It certainly was a marvelous sight » (O. Wilde, 1979, p. 55). / « Илемлĕ ÿкерчĕк курăннă <…> » (Уайльд О., 1986, с. 26). / «Он увидел что-то необыкновенное». Для передачи семантики наличности автор оригинала употребляет прилагательные wonder ful , beauti ful , marvel ous , которые передаются на чувашский язык при помощи имен прилагательных асам лă , илем лĕ , илем лĕ , образованных при помощи аффиксов с соответствующим значением.
Однако это не единственный способ передачи семантики наличности в исследуемых языках:
«This is a delight ful spot <…> » (O. Wilde, 1979, p. 48 / « Калама çук килĕшет мана кунта <…> » (Уайльд О., 1986, с. 27) / «Невозможно выразить, как нравится мне здесь», где семантика наличности выражена при помощи имени прилагательного delight ful и передается на чувашский язык посредством синтаксического оборота, образованного от сочетания глагола, состоящего из формоосновы на - ма - ( - ме - ) и постпозитивной отрицательной частицы çук .
«Once a beautiful flower put its head out from the grass <…> » (O. Wilde, 1979, p. 48). / «Пĕр пĕчĕкçĕ чипер чечек кăна курăк ăшăнчен пуçне кăларса пăхна та <…> » (Уайльд О., 1986, с. 27) / «Как только красивый цветок показался из травы <…> », где семантика наличности, реализуемая при помощи имени прилагательного beautiful , передается при помощи слова с синонимичным значением чипер на чувашский язык.
« <…> looking down at him with her beautiful eyes » <…> » (O. Wilde, 1979, p. 82) / « Пулăç çине куç илмесĕр пăхнă Тухатмăш » (Уайльд О., 1986, с. 141) / «Ведьма очаровательными глазами смотрела на рыбака», где семантика наличности выражена в имени прилагательном beautiful и передается при помощи деепричастия илмесĕр , образованного от формоосновы на - ме - и аффикса и означающего «не отрывая».
« Why not? It is a most joyful occasion » (O. Wilde, 1979, p. 84). / « Ма савăн малла мар ара? » (Уайльд О., 1986, с. 46) / «Почему же мы не должны радоваться», где семантика обладания, выраженная при помощи прилагательного joyful, передается при помощи словосочетания, состоящего из деепричастия савăн малла , образованного от глагола саван и аффикса долженствования на - малла, и постпозитивной отрицательной частицы мар «не должны радоваться».
«What can such a hair less one do against the Red Dog?» (Р. Киплинг, 2003, p. 165). / «Çак çăм сăр скер Хĕрлĕ Йытăсене хирĕç мĕн тума пултарĕ?» (Манял, 1936, с. 86). / «И что же может Маугли сделать этим Рыжим собакам»; « <…> the tail less leader not five yards behind him <…> » (Р. Киплинг, 2003 p. 176). / « <…> ун хыçĕнчен пилек утăмра хÿре сĕр çулпуçĕ чупса пынă <…> » (Манял, 1936, с. 253). / «В пяти ярдах за ним бежал бесхвостый лидер <…> », где отрицательные форм имен прилагательных hair less, tail less передаются при помощи аффикса отрицания - сăр (-сĕр) в словах çăм сăр скер,хÿре сĕр на чувашский язык.
Выявлены вариативные средства передачи аналогичной семантики:
«I hope so, but the sky is quite blue and cloud- less » (O. Wilde, 1979, p. 77). / «Пĕр пĕлĕт татки те çук» ?» (Уайльд О., 1986, c. 49) / «Небо ясное, и нет ни облачка», где отрицательная форма имени прилагательного cloud less, образованная посредством суффикса - less, передается при помощи постпозитивной отрицательной частицы çук на чувашский язык .
« <…> and when they came to the MountainTorrent she was hanging motion less in air, for the Ice– King had kissed her» (O. Wilde, 1979, p. 176). / « <…> Утсан-утсан, чухăнсем Ту çинчи Шывсикки патне çитнĕ, Шывсиккине Пăр Патши шăнтса пăрлантарса лартнă » (Уайльд О., 1986, c. 110) / «Приближаясь к горному водопаду, они увидели, что Королева Льда превратила его в лед», где деепричастия шăнт са, пăрлантарса с семантикой «морозить, холодать, подмораживать» и «замораживать, покрывать льдом», ибо действитель-но,замороженный и обледенелый водопад действительно выглядит неподвижным.
«Well, never mind, I will do without it» (O. Wilde, 1979, p. 65) / Юрать - çке, хунар сăр ах, эппин <…> (Уайльд О., 1986, c. 38). / «Я обойдусь без фонаря», где семантика отсутствия, реализуемая посредством предлога without, передается при помощи аффикса отрицания - сăр на чувашский язык.
Как явствует из проведенного исследования, семантика наличности и отсутствия аналогична в исследуемых языках. Однако встречаются лексические и лексико-грамматические трансформации при передаче соответствующего значения в процессе перевода с английского на чувашский язык.
Заключение
Сопоставительное исследование средств семантики наличности и отсутствия на примере типологически разноструктурных языков актуально не только для комплексного их описания, но и выявления основных элементов при передаче соответствующей семантики с языка оригинала на язык перевода. Неотъемлемой частью переводческого процесса является определение и глубокое осмысление языковых особенностей в исследуемых языках.
Таким образом, проведенное сопоставительное исследование семантики наличности и отсутствия посредством аффиксов в разносистемных языках позволяет сделать вывод , что:
-
1) семантика наличности и отсутствия в исследуемых языках эквивалентна, но структурно отличается;
-
2) в английском языке при передаче семантики наличности и отсутствия в основном употребляются форманты -ful и - лă ( - лĕ ) и - less и –сăр ( -сĕр ) соответственно;
-
3) в чувашском языке аффикс -сăр ( -сĕр ) является полифункциональным, в отличие от соответствующего аффикса в английском языке;
-
4) в английском языке существительные, имеющие формооснову на - ness, в отличие от чувашских имен на - лă ( - лĕ ), не принимают аффиксы выделения и аффикс множественного числа;
-
5) в процессе передачи семантики наличности и отсутствия с английского на чувашский язык, как правило, помимо инвариантых средств имеются вариативные соответствия, которые обусловлены творческим замыслом переводчика.
Список литературы Выражение семантики наличности и отсутствия в английском и чувашском языках
- Адмони, В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка / В.Г. Адмони. - М.: Изд-во лит на иностр. яз., 1956. - 392 с. С. 163-164.
- Азаманов, А.С. Логические формы и их выражение в языке // Мышление и язык. - М.: Госполитиздат, 1957. - С. 142-182.
- Айзенштадт, Э.И. Семантика отрицания / Э.И. Айзенштадт // Иностранные языки в школе. - 1949. - № 5. - С. 19-25.
- Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 1 / Аристотель. - М.: Мысль, 1978. - 550 с.
- Бондаренко, В.Н. Отрицание как логико-грамматическая категория / В.Н. Бондаренко. - М.: Наука, 1983. - 215 с.
- Бродский, И.Н. Отрицательные высказывания / И.Н. Бродский. - Л.: Изд-во ЛГУ им. А.А. Жданова, 1973 - 95 с.
- Есперсен, О. Философия грамматики / О. Есперсен; пер. с англ. В.В. Пассека и С.П. Сафроновой. - М.: Изд-во иностр. лит, 1958. - 300 с.
- Сергеев, В.И. Морфология чувашского языка: словоизменение, формоизменение, формообразование: моногр. / В.И. Сергеев; науч. ред. А.П. Долгова. - Чебоксары: Чуваш. гос. ин-т гуманит. наук, 2017. - 400 с. EDN: VYEIAP