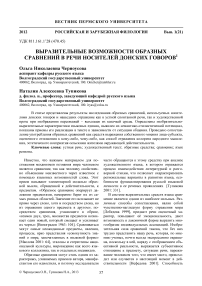Выразительные возможности образных сравнений в речи носителей донских говоров
Автор: Черноусова Ольга Николаевна, Тупикова Наталия Алексеевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 (21), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты исследования образных сравнений, используемых носителями донских говоров и нашедших отражение как в устной спонтанной речи, так и художественной прозе при изображении персонажей – выходцев из казачьей среды. Определены изобразительно-выразительные характеристики языковых единиц, выявлен их семантико-стилистический потенциал, показаны приемы его реализации в тексте в зависимости от ситуации общения. Проведено сопоставление употребления образных сравнений как средств выражения собственного мнения лица-субъекта, оценочного отношения к кому-либо, чему-либо, как способ отражения колорита народного мышления, эстетического восприятия сельскими жителями окружающей действительности.
Устная речь, художественный текст, образные средства, сравнение, язык региона
Короткий адрес: https://sciup.org/14729190
IDR: 14729190 | УДК: 811.161.1’28
Текст научной статьи Выразительные возможности образных сравнений в речи носителей донских говоров
Известно, что важным материалом для постижения механизмов познания мира человеком является сравнение, так как человеку свойственно объяснение неизвестного через известное с помощью языковых возможностей слова. Этот прием называют элементарной моделью образной мысли, обращенной к действительности, к предметам. «Образное сравнение оперирует далекими предметами, намеренно берет их из самых разных областей. Значение его всплывает не прямо через слово, хотя и посредством слова, но из отражения одного предмета в другом»; посредством сравнения, угасающего в образе, «взамен двух, трех, множества предметов возникает один новый, который смещает и усиливает их черты» [Виноградов 1963: 104]. Сравниваться могут самые неожиданные предметы, явления, процессы, ярко представляя «совокупность знаний о мире, запечатленных в языковой форме» [Маслова 2001: 64], эталоны и стереотипы национальной культуры, мировидение как всего языкового коллектива, так и отдельных индивидов.
Образные сравнения могут стать одним из характерных, узнаваемых приемов автора, манифестантом его идиостиля, и поэтому исследователи часто обращаются к этому средству при анализе художественного языка, в котором отражается процесс взаимодействия литературной и разговорной стихии, что позволяет охарактеризовать региональные варианты в развитии языка, особенности функционирования русской языковой личности в ее речевых проявлениях [Тупикова 2001: 331].
В системе выразительных средств языка сравнение является одним из наиболее сильных. Различные способы сопоставления, являя собой чувственно-наглядную форму отражения мира [Лебедева 1999], придают речи оценочный характер, повышают её эмоциональность, дают возможность в лаконичной форме выразить многообразие индивидуальных ассоциаций. Изобразительная сила сравнений такова, что без них трудно представить нашу речь, которая, по мнению ученых, почти всегда экспрессивно окрашена, поскольку в ней, наряду с отображением объективной реальности, выражается субъективное отношение к предмету, ситуации речи, переживание человеком того, что имеет место, происходит или случается в настоящий момент в действительности [Нефедова 2001]. Способность
сравнений «ярко выразить что-нибудь, тем самым привлечь внимание собеседника и удерживать его на всем протяжении речи» [Пекарская 2001: 12] позволяет говорить об их мотивированности контекстом высказывания, включающим образные сравнения как «усилители семантики экспрессивных словоформ» [Лукьянова 1986].
В основу данного исследования легли теоретические положения о выразительных ресурсах языка [Головин 1988; Брысина 2001], стилистической значимости языковых единиц [Кожина 1993], их образности [Яхина 2007; Волкова 2004] и устойчивости [Огольцев 2001; Лебедева 1999], об экспрессивности разговорной речи [Лукьянова 1986].
Анализ сравнений, собранных в ходе непосредственного общения с информантами – носителями донских говоров Волгоградской области, фактов, зафиксированных в диалектных словарях и в произведениях местных писателей, позволяет исследовать богатство живой речи народа, делать выводы о своеобразии использования казаками выразительных средств общенародного языка.
Источниками для отбора материала послужили записи живой речи жителей Киквидзенского района Волгоградской области, лексикографические данные и проза волгоградского писателя, хоперского казака Н.В.Сухова (роман «Казачка», повести и рассказы).
Возникая в устной речи спонтанно, одни образные сравнения сиюминутны в речи сельчан, порождаются ассоциативными связями человеческого сознания в определенный момент, другие характеризуются воспроизводимостью, устойчивостью, позволяя диалектоносителям «сохранять свою национальную идентичность, следовать традициям в быту, обрядах, промыслах, обычаях» [Тупикова 2010: 60]. Анализ художественной речи дает подтверждение тому, что в художественном тексте, как и в спонтанной речи носителей диалекта, наряду с устойчиво воспроизводимыми языковыми единицами используются и индивидуально-авторские, отличающиеся новизной.
В сферу внимания говорящего прежде всего попадает человек, поэтому образные сравнения чаще всего выступают одним из средств характеристики субъекта или человеческих взаимоотношений: Злая жына точить мужа как ржаф-чина жылезу (СДГ, 594); Атвяжись ты ат миня, пристал, как рипей (Р.П.Короткова, 1936 г.р.)2; Хто-та пристаёть, надаидаить, пра няво гава-рять: «Вот пристал, как чирий на насу» (СДГ, 657). Для выражений точить (кого-л.), как ржавчина (ржа) железо, пристать (привязать- ся), как репей, как чирий (на носу), используемых в этих высказываниях, свойственна закрепленность в общенародном употреблении, что объясняется широким распространением житейского познания явлений природы и человеческих болезней. Субъект речи в этом случае опирается на общую для партнеров по диалогу апперцепционную базу. Будучи объектами образных сравнений, указанные языковые средства способствуют развитию эмоционально-экспрессивных оттенков в словах, составляющих сравнение.
Анализ сравнений в прозе Н.В.Сухова показал, что языковые единицы осмысливаются чаще на фоне широкого контекста, произведения как художественного целого [Будагов 1973: 30]. Например, говоря о времени Гражданской войны, старушка-мать главного героя «Донской повести» Филиппа Фонтокина вздыхает: «– Какие, Филя, времена-то пришли, господи,… совсем по-сбесился народ: один туда, другой сюда. Как круженые овцы на стойле» (С1, 136). В словах героини повести звучит своеобразный приговор. Областное слово круженые в значении «бестолковые», отмеченное в Большом толковом словаре донского казачества [БТСДК: 243], дополняет субъективную оценку объекта сравнения. Как видно из примера, сравнения имеют оценочный характер, повышают эмоциональность высказывания, служат для передачи живой экспрессии народной речи.
Яркое, образное осмысление может получить поведение субъекта: Эт ни дяфчёнка, а ящирка какая-та, ни ухватиш, ни паймаиш (СДГ, 690); Ну ты, брат, и шышыга: как вьюн – ни пай-маиш, ни схватиш, ни удержыш (СДГ, 674); Уселась как пичирика, и сидить, ни с места (БТСДК, 366), сидить как курчонак, и лапки слажил (В.В.Черноусова, 1932 г.р.). В первом высказывании удивление, недоумение в отношении способа перемещения человека передано с помощью отрицательного сравнения, позволяющего сопоставить стремительность движений человека и пресмыкающегося. Во втором контексте объект сравнения вьюн (в значении «маленькая рыбка») [БТСДК: 100] помогает создать образ, хорошо знакомый собеседнику по ассоциации с тем, что маленькую рыбку поймать и удержать в руках очень непросто.
Изобразительность речи диалектоносителей усиливается употреблением в составе сравнений диалектизмов. Так, распространенность в донских говорах слова печерика в значении «древесный гриб» [БТСДК: 366] порождает ассоциации между действием человека и свойством гриба прочно и недвижимо прикрепляться к чему-либо: усесться как печерика – «сесть и не двигаться»
[БТСДК: 366]; бытующее в речи пожилых жителей Киквидзенского района слово курчонок в значении «оперившийся цыпленок» (в речи донских казаков зафиксировано слово курёнок ) [БТСДК: 252] применительно к поведению человека указывает на неопытность, застенчивость, робость характеризуемого лица.
В художественном произведении, как показывает речь персонажей, разговорные, диалектные, просторечные слова могут выступать в сходных функциях, способствуя характеризации чего-л. Например, в «Донской повести» иронически оценивается внешний вид пострадавшего во время драки казака: «– А здорово они тебе, паря, фисгармонию устроили. По щекам ровно бука-рем елозили. Вишь, сколько борозд понаставили» (С1, 109). Существительное букарь , пришедшее в художественное сравнение из казачьего быта, обозначает плуг, имеющий от 2 до 4 лемехов [БТСДК: 59]; в основании сравнения – глагол елозить , в прямом значении указывающий на разнонаправленность движения, в контексте в переносном смысле характеризует большое количество неровных шрамов, оставленных на лице героя после побоев [РСС 1998: 224]. Эти языковые средства позволяют автору живописать образ пострадавшего в драке казака и передать колорит сельской речи.
Выразительные возможности сравнения можно наблюдать, когда оно выступает как средство создания нравственного портрета героя в художественном произведении: « Илья Петрович строго, внушительно продолжал: «Мы как есть партизаны со дня революции, то, стало быть, должны в понятие брать, передом итить и не вилять туда-сюда, как неуч в борозде. Так-то!» (С1, 211). В этих контекстах Сухов характеризует устойчивую идеологическую ориентацию персонажа рассказа «Выборы», его твердую решимость стоять за дело революции. В составе сравнения представлен разговорный глагол вилять в значении «делать крутые повороты» [СТСРЯ 2004: 79]. Объект сравнения неуч (в казачьих хоперских говорах может использоваться также вариант неук со значением «необъезженная лошадь») [Попов 2004: 67] имеет в значении отрицательный эмоционально-оценочный компонент и служит примером народного острословия. Сравнение выражает деэстетизирующее, «ухудшающее» отношение [Корольков 1972: 126], позволяя автору ярче охарактеризовать Илью Петровича: Лукерья, по мнению мужа, недостаточно понятлива и плохо «подкована» в плане идеологии, поэтому приходится все время стараться её «вразумить».
Реальная действительность при сопоставлении подвергается экспрессивной переработке в силу того, что говорящий выражает свое отношение к предмету речи, адресату. Нередко сравнения раскрывают образ, заложенный в семантике экспрессивной словоформы, или, как отмечают исследователи, способствуют его раскрытию и адекватному пониманию [Лукьянова 1986]. Эмоционально-оценочное восприятие часто проявляет себя в диапазоне одобрение – неодобрение . Эти общие смыслы конкретизируются в предикатах, используемых для выражения отношения презрения, пренебрежения, сочувствия, восхищения и др. [Телия 1991: 41].
Так, иронической или неодобрительной оценке может подвергаться речевая деятельность лица-субъекта: Чаво ты как латаха, я у тибя нича-во ни панимаю (СДГ, 303); Расчикакалси, как сарока (СДГ, 512); Брешит ведь, как сабака все равно (А.П.Трофимова, 1940 г.р.); его внешний вид: Расшараварилси – питухом ходить (СДГ, 512); Разажралси, как кабан, морду за динь ни объедиш (СДГ, 372); Здаровый, как лось, чаво йиму сделаицца (А.М.Данилов, 1923 г.р.) . Анализ массива языковых фактов позволяет говорить о преобладании сравнений с отрицательной оценкой, употребляемых для характеристики человека, его душевного состояния, например: Эта ма-нашка как квака дигилястая (СДГ, 241); Он ви-лючий, как лиса (СДГ, 79); Упёрси, как бугай, ни тпру, ни но (СДГ, 54).
Оценочная лексика помогает говорящему достичь желаемой экспрессии речи. Поэтому наиболее частотны в сравнениях слова, обозначающие объекты, которые представляют животный мир. Нейтральные по эмоциональной окраске лексемы в переносном смысле способствуют выражению характерологической функции. Это чаще всего физические, психические и социальные свойства личности, например: Манькя – афца кружыная, туды-сюды шастаить (СДГ, 373); Чиво ты лезиш в грясь? Вачкаишся каждый день, как свиня (БТСДК, 68); Он у нас, как жук навозный, да фсяво дакапаицца (СДГ, 173); Уставился на меня, как бык на новые варата, и малчит (Н.И.Мельникова, 1931 г.р.). Как видно из примеров, сравнение позволяет раскрыть самобытность народной психологии. Отрицательная оценочность часто сочетается с экспрессией насмешливой, даже уничижительной характеристики, например, распространенные лексемы овца , свинья , боров , козел , кочет и многие другие применительно к человеку имеют вульгарный, бранный, презрительный смысл.
В прозе Н.В.Сухова сравнений с отрицательной оценкой, употребляемых для характеристики внешнего вида героев и описания их душевного состояния, гораздо больше, чем с положительной. С помощью сравнительного оборота автор характеризует не только поведение, но и внутреннее состояние людей, собравшихся на казачий круг, отмечая особенности казачьей натуры, передавая напряженность описываемой ситуации. Так, использование в «Донской повести» развернутого сравнения дает возможность сопоставить и уподобить одновременно два образа. Например: «Ошеломленная толпа мгновенно присмирела, стихла – так стихает летний день перед зловещей полуденной грозой. Казаки, точно оглушенные внезапным взрывом, молча хлопали веками, смотрели на оратора и не могли оторвать глаз от его возбужденного лица – на высоком лбу его выступили капельки пота» (С1, 14). Крайнюю степень эмоционального напряжения старых казаков автор передает так: «Овечьими хвостами затряслись бороды, лица распёр-лись яростью» (С1, 104).
Оценочное сравнение может использоваться автором для того, чтобы показать особые качества казака: « – Добре, очень, – похвалил Моисеев. – А то что эти… как куга гнутся. Не успеешь и руки донесть, они – как на ногах не стояли» (С2, 45). В приведенном фрагменте из романа «Казачка» силач Моисеев говорит о тех, кто не умеет выдержать удара противника и сразу валится с ног. Сравнивая таких казаков с кугой – озерным камышом [БТСДК: 247], герой имеет в виду гнущееся от малейшего дуновения ветра растение. Имплицитно при этом выражается представление о настоящем казаке, который должен крепко стоять на ногах в любых ситуациях.
В авторской речи и в речи героев романа Н.В.Сухова «Казачка» часто встречаются сравнения человека с животными. В результате качества человека приобретают ироническую или неодобрительную оценку: «шею наел, как хуторской бугай» (С2, 86); « полохаешься, как кривая кобыла» (С2, 56); «как баранов, гонят нас» (С2, 236); « огрызался, как волкодав на шавок» (С2, 61); «ржете, яко жеребцы в стойле» (С2, 47); «сидишь, как байбак в норе» (С2, 454); «подскочившего разъяренным гусаком» (С2, 46); «коршуном налетел на сына» (С2, 49); «зверем перемахнул через забор» (С2, 312). Выбор объекта в таких сравнениях определяется хорошо известными писателю, как носителю диалекта, ассоциациями казаков, порожденными наблюдениями за внешним видом, жизнью и повадками животных.
Положительная коннотация в семантике словесных средств в живой речи наблюдается в тех случаях, когда говорящий передает информацию о себе: Я прям кричала громка, как калакол (СДГ, 255); Мой дедушка друшкавал, как хазяин был (СДГ, 152) и выражает сочувствие: Да какая-та ана как бискаринённая травачка (СДГ, 41), симпатию, восхищение: красивая, как куколка (БСНС, 318); как картиночка (БСНС, 248), Няве-ста прям как нарисованная (Н.И.Мельникова, 1931 г.р.); А мой Иван трезвинький, как купыр-чик, дамой йивился (В.В.Черноусова, 1932 г.р.).
В авторской речи положительная коннотация присутствует в сравнениях, передающих отношение писателя к героям произведений, в разной степени раскрывая самобытность народной психологии, например: «Всякая травинка тянется к солнцу, так и всякая невеста тянется к счастливой жизни, к хорошему жениху» (С2, 116). Девушка, вступающая в брак, видится автору травинкой, стебельком, который стремится к теплу солнца. На этом базируются устои в казачьей семье, представление о том, каким должен быть брачный союз двух сердец.
Создавая образ старой женщины, прожившей всю свою жизнь по тем традициям и устоям, которые существовали в казачьей среде, автор романа «Казачка» сравнивает ее с тем животным, которое выполняет в хозяйстве тяжелую тягловую работу. Например: «Мысли ее и желания даже в пору девичьих грез не переносились за околицу хутора и никогда не выходили из того извека очерченного круга, по которому, что лошадь на чигире, она ходила уже добрых семь десятков лет» (С2, 116). Областное слово чигирь в значении ‘приспособление для подъема воротом воды из речки, озера для поливки огородов’ [БТСДК: 579] дополняет и уточняет смысл сравнения: лошадь была средством приведения в движение этого приспособления в виде колеса. Ограниченность домашним хозяйством и тяжелый труд – удел женщины той эпохи, о которой с сочувствием рассказывает писатель.
Авторская речь Н.В.Сухова включает большое количество образных сравнений, основанных на сопоставлении субъекта с явлениями природы. Они помогают изобразить внешний вид героя, передать его физическое и духовное состояние в конкретный момент времени. Например, рассказывая в «Донской повести» о друге Филиппа Фонтокина Андрее-батарейце, Н.В.Сухов неоднократно сравнивает его с могучим вязом: «Широко расставив ноги, Андрей стоял, что вяз, глубокими корнями вросший в землю…» (С1, 106). В конце эпизода схватки с полицейскими образ получает свое развитие: «Когда Филипп глянул назад – Андрей тяжело и медленно валился набок, словно вяз, подмытый водой» (С1, 106). Повторяющиеся относительно одного персонажа сравнения дают яркую и зримую характеристику казака, прочно стоящего на родной земле. Очень часто в повествование вплетается народное восприятие жизни, выраженное словами автора: «Всякая травинка тянется к солнцу, так и всякая невеста тянется к счастливой жизни, к хорошему жениху» (С1, 116).
Неживая природа представлена в авторских сравнениях образами, связанными с туманом, водой, огнем и пр., что позволяет передать психическое состояние кого-либо, например: «Но грусть ее была – что вешний на заре туман: солнце выглянет из-за бугра, и туман голубой дымкой рассеется в небе» (С2, 116).
Объектом словесного изображения в художественном тексте становятся не только персонажи (их внешний вид, манера поведения, черты характера, психологическое состояние, поступки), но и обстановка, пейзаж, картина огромного пространства земли, на которой живет казак: «Полой водой вокруг разливалась зоревая тишь» (С1, 100). Изображая наступление утра, автор может, например, уподоблять всеобъемлющую тишину весеннему разливу паводковых вод, что хорошо знакомо крестьянину, живущему на землях между Волгой и Доном.
Рассматриваемый материал свидетельствует о том, что большинство сравнений, зафиксированных в устной речи диалектоносителей, в речи персонажей и автора произведений Н.В.Сухова, выступает в коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения к содержанию или адресату речи, восприятия говорящим и пишущим окружающего мира, осмысления его с точки зрения значимых бытовых представлений о нормах человеческого поведения, морали. Разнородность сравниваемого не имеет границ и порождает всевозможные оттенки эстетически создаваемой экспрессии. Анализ фактов показывает, что сравнение – это не самоцель, а способ передать собственное мнение; при этом, когда изображаются человеческие взаимоотношения, субъект сравнения характеризуется с использованием широко известных в народной среде образов, обычно входящих в состав устойчивых выражений, отражающих важные стороны исторического прошлого русского народа, особенности быта, культуры казаков.
Для характеристики объекта речи, адресата, среди казаков достаточно распространены образы, взятые из мира окружающей их природы. В отдельных случаях это диалектные названия лиц по их отношению к труду, культуре, общественным нормам и правилам, содержащие эмоцио- нальную характеристику предмета речи с преобладающей отрицательной коннотацией.
Немалое значение в народной речи имеют выражаемые с помощью образных сравнений отношения одобрения, сочувствия, восхищения, повышающие эмоциональность высказывания и передающие индивидуальные ассоциации.
В художественной речи диапазон использования выразительных возможностей образных сравнений расширяется, что связано с выполнением эстетических задач. Для передачи своих чувств, точного описания колорита быта и речи определенной местности, краткой характеристики человека автор черпает образы сравнений, опираясь на богатый материал региональных вариантов общенародного языка.
Post-graduate Student of Russian Language Department
Head of Russian Language Department
Volgograd State University
Список литературы Выразительные возможности образных сравнений в речи носителей донских говоров
- С1 -Сухов Н.В. Донская повесть. Наташина жалость. Повести и рассказы. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1973. 143 с.
- С2 -Сухов Н.В. Казачка. Волгоград: Издатель, 2004. 535 с.
- БСРНС -Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских народных сравнений. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2008. 800 с.
- БТСДК -Большой толковый словарь донского казачества. М.: ООО «Русские словари»; ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. 608 с.
- СДГ -Словарь донских говоров Волгоградской области/авт.-сост. Р.И.Кудряшова, Е.В.Брысина, В.И.Супрун; под ред. проф. Р.И.Кудряшовой. Волгоград: Издатель, 2011. 704 с.
- Брысина Е.В. Экспрессивно-выразительные средства диалекта: учеб. пособие по спецкурсу. Волгоград: Перемена, 2001. 131 с.
- Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 254 с.
- Волкова Т.Ф. Сравнения в речи диалектной языковой личности: дис.... канд. филол. наук. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004. 237 c.
- Головин Б.Н. Основы культуры речи. М.: Высш. шк., 1988. 280 с.
- Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1993. 224 с.
- Корольков В.И. Сравнение//Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. М.: Сов. энциклопедия, 1972. Т.7. С.126.
- Лебедева Л.А. Устойчивые сравнения русского языка во фразеологии и фразеографии: дис. … д-ра филол. наук. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. ун-та, 1999. 192 с.
- Лукьянова Н.А. Экспрессивная лексика разговорного употребления (проблемы семантики). Новосибирск: Наука, 1986. 230 с.
- Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие. М.: Academia, 2001. 208 с.
- Нефедова Е.А. Экспрессивный словарь диалектной личности. М.: Изд-во МГУ, 2001. 144 с.
- Огольцев В.М. Словарь устойчивых сравнений русского языка. М.: Рус. словари и др., 2001. 797 c.
- Пекарская И.В. Контаминация в контексте проблемы системности стилистических фигур русского языка: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2001. 44 с.
- Попов А.Д. Родное донское слово: систематизированный словарный материал Прихоперья. Волгоград: Издатель, 2004. 112 с.
- РСС -Русский семантический словарь/под ред. Н.Ю. Шведовой: в 6 т. М.: Азбуковник, 1998. Т.1. 800 с.
- СТСРЯ -Современный толковый словарь русского языка/гл. ред. С.А.Кузнецов. М.: Ридерз Дайджест, 2004. 960 с.
- Телия В.Н. Экспрессивность как проявление субъективного фактора в языке и ее прагматические ориентации//Человеческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности. М.: Наука, 1991. С.5-36.
- Тупикова Н.А. Выражение ин-персональности в языке произведений волгоградского писателя Е.А. Кулькина//Стрежень: Науч. ежегодник. Вып.3. Волгоград: Издатель, 2001. С.331-333.
- Тупикова Н.А. Отражение в лексиконе диалектоносителей функционального взаимодействия русского и украинского языков на территориях смешанного проживания и населения//Анклавистика: сб. науч. работ. Горловка: Изд-во ГГПИИЯ, 2010. С.50-61.
- Яхина Д.И. Образные средства в современной русской разговорной речи: на материале метафор и сравнений: дис. … канд. филол. наук. Саратов: Саратов. гос. ун-т, 2007. 140 с.