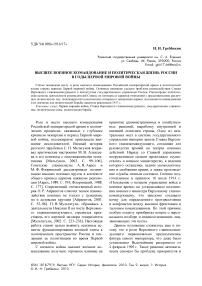Высшее военное командование и политическая жизнь России в годы Первой мировой войны
Автор: Гребнкин Игорь Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена месту и роли высшего командования Российской императорской армии в политической жизни страны периода Первой мировой войны. Основное внимание уделено проблеме взаимодействия Ставки Верховного главнокомандующего с институтами государственного управления России. Рассмотрены политические аспекты деятельности руководителей Ставки, их контакты и характер отношений с представителями различных политических сил. Анализируются политические интересы и настроения первых лиц военного командования и их значение для политической борьбы накануне революции 1917 г.
Первая мировая война, ставка верховного главнокомандующего, государственное управление, политические силы, политическая борьба
Короткий адрес: https://sciup.org/14737170
IDR: 14737170 | УДК: 94(100)«1914/17»
Текст научной статьи Высшее военное командование и политическая жизнь России в годы Первой мировой войны
Роль и место высшего командования Российской императорской армии в политических процессах, связанных с глубоким кризисом монархии в период Первой мировой войны, неоднократно привлекали внимание исследователей. Видный историк русского зарубежья С. П. Мельгунов вскрывал критические настроения М. В. Алексеева и его контакты с оппозиционными политиками [Мельгунов, 2003. С. 99–106]. Советские специалисты А. Я. Аврех и М. Ф. Флоринский рассматривали политизацию высших военных кругов в контексте общего кризиса царизма накануне революции [Аврех, 1989. С. 194; Флоринский, 1988. С. 177]. Современный отечественный историк О. Р. Айрапетов отмечал тесное взаимодействие военных не только с думскими, но и деловыми кругами [Айрапетов, 2003. С. 32–96]. П. В. Мультатули, обращаясь к деятельности Николая II на посту Верховного главнокомандующего, стремился представить его жертвой заговора генералитета [Мультатули, 2002. С. 223–236]. Настоящая работа ставит целью выявить основные аспекты функционирования военной элиты в политическом пространстве России и тенденции ее политизации во время Первой мировой войны.
С началом войны высшее военное командование получило огромное влияние на принятие административных и хозяйственных решений, выработку внутренней и внешней политики страны. Одно из центральных мест в системе государственного управления империи заняла Ставка Верховного главнокомандующего, созданная для руководства армией на театрах военных действий. Наряду со Ставкой управление вооруженными силами продолжало осуществлять и военное министерство, в ведении которого оставались задачи укомплектования и снабжения армии, а также прохождение службы личным составом. Спешно подготовленное и принятое 16 июля 1914 г. «Положение о полевом управлении войск в военное время» не устанавливало подчинения военного министра Верховному главнокомандующему, что заведомо создавало почву для определенного противостояния и конфликтов между высшим фронтовым и тыловым командованием. По этой причине особую остроту приобретал вопрос о персональном подборе и взаимоотношениях лиц, занимающих эти посты.
Данное положение сложилось еще и потому что в роли Верховного главнокомандующего первоначально предполагалась фигура самого императора, что даже было установлено Высочайшим рескриптом от 4 февраля 1903 г. Такое решение автоматически снимало бы проблему приоритетов и
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История
взаимного подчинения во всех управленческих звеньях. Однако, столкнувшись с практически единодушным мнением министров, заключавшемся в том, что государь не должен покидать столицу, Николай II не решился провозгласить себя Верховным главнокомандующим [Сухомлинов, 1924. С. 292; Григорович, 1999. С. 143; Кондзеровский, 1967. С. 10]. Таким образом, сам выбор кандидата на этот пост, подразумевавший огромную власть, приобретал политическое звучание. После недолгих раздумий император остановил выбор на кандидатуре своего двоюродного дяди – Великого князя Николая Николаевича-младшего. Данное решение император все же полагал временным. 19 июля, приняв у себя Николая Николаевича, он записал в дневнике: «объявил ему о его назначении Верховным главнокомандующим вплоть до моего приезда в армию» [Дневники…, 1991. С. 477].
В условиях патриотического подъема первых дней войны эти обстоятельства остались незаметны для широкой общественности. Политические круги восприняли фигуру Николая Николаевича во главе действующей армии, как и иные шаги высшей власти, с благосклонностью. Весь составивший немногим более года период пребывания Великого князя на посту Верховного главнокомандующего можно характеризовать, как триумфальное восхождение к вершинам общественного обожания. Николай Николаевич, чья многолетняя военная служба прошла на строевых должностях, был ценим и уважаем в армии. Известность о нем как о резком, но волевом и справедливом начальнике стала предпосылкой популярности, которая в дальнейшем в общественных кругах не уменьшалась. Механизм формирования образа Верховного главнокомандующего в массовом сознании достаточно точно вскрывал известный историк и публицист М. К. Лемке: «Все слышали в свое время о горячем, порывистом и несдержанном характере Николая Николаевича. Теперь ему придали благородные черты реформатора армии, ярого сторонника правды, решительного искоренителя лжи, удовлетворяя этим свой запрос на подобные положительные качества, – отсюда легенды не о том, что было и есть, а о том, чего так хотелось бы» [2003. С. 104]. С ним согласен крупный военный специалист эмиграции генерал Н. Н. Головин: «Народные массы стремились воплотить в нем черты любимого вождя» [Головин, 2001. С. 320]. Детально изучавший феномен популярности Великого князя на посту Верховного главнокомандующего О. Р. Айрапетов сделал вывод о том, что он воплотил в себе актуализировавшийся в военное время общественный запрос на диктатора и диктатуру [Айрапетов, 2003. С. 51]. В этой ситуации Николай Николаевич становился и, что не менее важно, воспринимался политической фигурой с особыми возможностями влияния и самостоятельными интересами.
Интересы эти были вполне сводимы к упрочению положения Верховного главнокомандующего между действующей армией и монархом, превращению его из временного в постоянное и надежное. Данная задача естественным образом разрешалась бы при однозначно успешном развитии военных событий на фронтах, однако их итоги в 1914–1915 гг. не являлись таковыми. Кроме того, популярность Великого князя в армии и обществе приводила к возраставшей все время подозрительности и раздражению части придворных кругов, тон которым задавала императрица Александра Федоровна. В своих письмах Николаю II она не скрывает недоверия и неприязни как к Николаю Николаевичу лично, так и к Ставке в целом 1.
Если сама работа Верховного главнокомандующего была не представима вне контактов с различными политическими силами и деятелями, то необходимость утверждать свой статус и влияние неминуемо подталкивала его к участию в политической борьбе и интригах на стороне тех или иных группировок. Одной из наиболее заметных сторон политической активности Ставки и лично Верховного главнокомандующего являлся все время нараставший конфликт с военным министром. Отношения Великого князя с Сухомлиновым были испорчены с 1905 года, когда последний критически отозвался о проектах реформирования армии, предложенных Николаем Николаевичем [Сухомлинов, 1924. С. 304; Данилов, 2006. С. 114]. Верховный главнокомандующий, стремившийся к более полному подчинению себе тыла ар- мии, склонен был представлять многие трудности, стоящие перед действующей армией, результатом неудовлетворительной работы ряда ведомств, но в особенности военного министерства.
Центральной проблемой, получившей широкий общественный резонанс и разыгрываемой политическими силами в собственных интересах, явилось снабжение фронта артиллерийскими боеприпасами. «Снарядный голод», наметившийся уже к концу 1914 г., был обусловлен неверной оценкой потребности в боеприпасах для артиллерии, сделанной до войны. Спустя полгода после ее начала он серьезно сказался на боеспособности и настроениях войск, но более того, вопрос об артиллерийском снабжении был поднят либеральными кругами и прессой и использован в открывшейся кампании критики правительства. В качестве решения предлагалось участие представителей цензовой общественности в организации работы промышленности, распределении военных заказов и контроле за их исполнением. Функции эти должен был исполнять особый межведомственный орган с широкими полномочиями.
Проводником этих планов на высшем военном и государственном уровне стал глава Государственной думы М. В. Родзянко. В ходе переговоров в Ставке ему удалось заручиться поддержкой Николая Николаевича, который до этого уже оказывал протекцию Земскому и Городскому союзам [Айрапетов, 2003. С. 64–65]. С одобрения Николая II, 14 мая 1915 г. к работе приступило Особое совещание по обороне (ОСО). В его состав вошли представители Государственной думы, Государственного совета, торговли и промышленности, а также ряда министерств. С первых дней работы ОСО Родзянко использовал его трибуну для критики правительства И. Л. Горемыкина. На лето 1915 г. приходится создание Военнопромышленных комитетов (ВПК) – общественных организаций, целью которых должно было стать содействие правительству в деле мобилизации промышленности. Центральный ВПК (ЦВПК) возглавил А. И. Гучков. С созданием ОСО и ВПК была построена альтернативная государственной система, связывавшая военного заказчика с частной промышленностью, но субсидируемая государством из сумм, выделяемых на военные заказы. Их руководство активно использовало свои контакты с высшим военным командованием в деловых и политических комбинациях.
Результатом объединения позиций и усилий думских деятелей в лице Родзянко и Верховного главнокомандования можно считать последовавшую в июне 1915 г. отставку с ключевых государственных постов нежелательных лиц для Думы лиц – министра внутренних дел Н. А. Маклакова и Сухомлинова 2. На смену последнему по рекомендации Верховного главнокомандующего был назначен генерал А. А. Поливанов, человек близкий к Гучкову и одно из центральных действующих лиц в кампании против Сухомлинова. Фигура Поливанова во главе военного министерства являлась сугубо политическим решением. Удовлетворяя как Ставку, так и думские круги, он уже не был объектом критики за снабжение армии и всячески демонстрировал свою решимость работать в контакте с «общественными деятелями».
14 июня 1915 г. в Барановичах состоялось совместное заседание высшего руководства Ставки и измененного состава правительства под председательством императора. В вышедшем в тот же день Высочайшем рескрипте объявлялось о решении государя не позже августа месяца созвать сессию Государственной думы. Необходимость ее созыва обосновывалась деятельностью Особого совещания по обороне. Таким образом, Николай II признавал возможность и целесообразность сотрудничества правительства и цензовой общественности в вопросах организации снабжения армии. Это решение, как и предшествовавшие ему создание ОСО и министерские перестановки, являлось результатом постоянного направленного воздействия на императора и вряд ли было достижимо для Родзянко и стоявших за ним сил без такого весомого союзника как Верховной главнокомандующий. Его роль в произошедшем была в известном смысле решающей.
В сложный для страны и армии момент Великий князь Николай Николаевич не впервые показал способность вести политическую интригу, а при необходимости оказывать давление и манипулировать импера- тором. Успех его состоялся в коалиции и при совпадении интересов с думскими и деловыми кругами, что заставляет задуматься о самостоятельности роли Николая Николаевича в политической игре первой половины 1915 г. Думские деятели, стремившиеся к реформам и использовавшие любые возможности для перераспределения в свою пользу влияния и власти, видели в Верховном главнокомандующем в первую очередь орудие собственной борьбы. Великий князь избрал их своими союзниками, считая, что сможет укрепить таким образом свое положение и отвести обвинения в неудачах командования.
Между тем ход военной кампании принимал все более трагические очертания. Летом 1915 г. русская армия, отступая по всему фронту, оставила всю территорию Польши, Галицию, значительную часть Прибалтики, Западной Белоруссии, Волыни. На летние месяцы 1915 г. приходятся и самые тяжелые людские потери за всю войну. В ходе отступления они составили более 1,4 млн человек убитыми и ранеными и около 1 млн пленными [Головин, 2001. С. 307]. В этих условиях назревал вопрос об ответственности лиц высшего командования действующей армией за неудачи и о соответствующих кадровых перестановках. 19 августа согласно воле императора Верховный главнокомандующий своим приказом назначил начальником штаба Ставки генерала М. В. Алексеева, до этого командовавшего войсками Северо-Западного фронта. Сам же Николай II, прибыв 23 августа в Могилев, куда Ставка была перенесена из Баранови-чей, объявил о своем вступлении в Верховное главнокомандование. Великий князь Николай Николаевич отправлялся в качестве Наместника на Кавказ. Произошедшие перемены значительно возвышали политический статус Ставки. Отныне Николай II гораздо больше времени проводил в Могилеве и в поездках в войска, обычным явлением стали визиты общественных деятелей и министров, их совещания и правительственные заседания в Ставке. Тем не менее, император не претендовал на непосредственное руководство операциями действующей армии, и функции Верховного главнокомандующего оказались возложены на начальника штаба. Назначение Алексеева на столь ответственный пост состоялось при благосклонном отношении всех заинтересо- ванных сторон. Думские деятели, очевидно, считали его подходящей фигурой и возлагали на него свои надежды. При этом, несомненно, учитывалось участие Алексеева в контактах высших офицеров с думской комиссией по Государственной обороне в 1908–1910 гг. и имевшее тогда место его знакомство с Гучковым. Император же нуждался в деятельном и грамотном помощнике во главе Ставки, желательно узком профессионале, который не вмешивался бы в решение политических вопросов, находясь в тени августейшего Верховного главнокомандующего.
Опыт и способности Алексеева в целом не вызывали сомнений в выдвинувшей его военной среде, а его простое происхождение и честная карьера импонировали широким кругам офицерства. Такой вождь, самостоятельный и ответственный, сочетавший черты полководца и демократизм, наиболее соответствовал в тот момент общественным ожиданиям. Именно профессиональное отношение к делу, не исчерпывавшееся формальным исполнением обязанностей, а понимаемое как ответственность перед армией и страной, определили исключительно важное место генерала Алексеева в политических событиях и борьбе последующего периода.
Как и в случае с Великим князем Николаем Николаевичем, у императора имелись все основания для настороженности и ревности к своему начальнику штаба. В условиях постоянной организационной неразберихи добросовестный и активный Алексеев, даже не стремясь к тому специально, сосредоточивал в своих руках все большее влияние и возможности. Проходивший службу в Ставке М. К. Лемке заметил, что все приезжающие в Могилев министры стараются попасть на прием к начальнику штаба, познакомиться с ним и установить деловые контакты. «К нач. штаба обращаются разные высокопоставленные лица с просьбами взять на себя и то, и се, чтобы привести в порядок страну. Например, Родзянко просил его взяться за урегулирование вопроса о перевозке грузов. И постепенно, видя, что положение его крепнет, Алексеев делается смелее и входит в навязываемую ему роль особого министра с громадной компетенцией, но без портфеля» [Лемке, 2003. С. 104–105].
Хорошо видевший всю глубину и трагизм стоявших перед страной проблем, делавших безнадежной борьбу действующей армии на фронте, Алексеев объективно оказывался близким к точке зрения либеральной оппозиции, критиковавшей правительство и царское окружение. А. И. Деникин передает со слов Алексеева, что в ходе своих докладов императору тот неоднократно пытался указать на тревожное положение в обществе, государственном управлении, экономике. Касался он при этом и самых острых вопросов, поднимавшихся либеральными кругами, – о роли Распутина при дворе и необходимости образования ответственного министерства, что неизменно вызывало неудовольствие государя [Деникин, 1991. С. 104–105].
Тем не менее, взгляды и интересы Алексеева, представлявшего наиболее прагматичную часть военно-профессиональной элиты, нельзя считать совпадавшими с взглядами и интересами либералов, для которых пикировка с царизмом преследовала цели борьбы за влияние и власть. Оппозиция военных определялась тем, что в условиях слабой и деградирующей государственной власти невозможным представлялось исполнение ими своих профессиональных задач – не только успешного ведения войны, но хотя бы сохранения вооруженных сил страны в относительно дееспособном состоянии. На фоне хозяйственных трудностей, отражавшихся на снабжении фронта, а стало быть, на боевых и моральных качествах войск, в среде высшего военного командования закономерно складывалось убеждение в необходимости не просто мобилизации промышленности, но и наведении в тылу порядка, отвечающего требованиям военного времени. Соответствующие шаги подразумевали бы усиление роли военных в управлении различными сферами жизни страны.
Опираясь на сведения о ситуации в оборонной промышленности, предоставленными Главным артиллерийским управлением, 15 июня 1916 г. М. В. Алексеев обратился на высочайшее имя с докладом. В нем приводились данные о состоянии военного производства, связанных с ним отраслей и транспорта, выполнении военных заказов за рубежом. Особая озабоченность высказывалась по поводу положения в рабочей среде, но пока лишь в связи с ущербом, наноси- мым производству забастовочным движением. В целом ситуация характеризовалась Алексеевым как предкризисная, требующая немедленных исключительных мер по ее преодолению и в первую очередь милитаризации заводов, работающих на оборону. В качестве ключевого условия их реализации предлагалось введение поста «верховного министра государственной обороны», назначаемого императором и только ему подотчетному, наделенному фактически диктаторскими полномочиями [Флоринский, 1988. С. 128].
Комплекс мер, изложенных в докладе Алексеева, был вынесен на обсуждение совещания Совета министров, проходившего в Ставке 28 июня 1916 г. и был отклонен большинством министров. В принципе же идея мобилизации промышленности не была отвергнута, но ее проведение правительство намеревалось осуществлять самостоятельно в рамках законодательства. В этом случае Алексеев и находившаяся в его руках Ставка уже не являлись добросовестными партнерами правительства и превращались в его конкурентов, а возможно, и врагов.
Вероятно, в связи с этими событиями Алексеев окончательно разочаровался в возможности конструктивно сотрудничать с правительством и в дальнейшем не скрывал собственного к нему отношения. Получавшая сведения об этом из уст главы кабинета Б. В. Штюрмера императрица Александра Федоровна постоянно «информирует» Николая II о настроениях и поведении начальника его штаба: «Алексеев не считается с Штюрмером, он прекрасно дал почувствовать это остальным министрам…» 3. «…Все министры чувствуют антагонизм с его стороны…» 4. Такая позиция Алексеева формально сближала его с лагерем либеральной оппозиции. И хотя проект диктатуры в алексеевской редакции не мог устраивать последний, его неудача, а также все более жесткая позиция военных в отношении правительства формировали в среде общественности и властей убеждение в том, что Ставка и лично Алексеев являются надежными союзниками либералов в политической борьбе. Характеризуя обстановку политического противостояния, сложившуюся к концу 1916 г., дворцовый комендант генерал В. Н. Воейков, чье мнение отражает взгляды придворных кругов, называл пять центров оппозиции самодержавной власти (по выражению Воейкова, центров «революционного брожения»): 1) Государственная Дума во главе с М. В. Родзянко; 2) Земский Союз во главе с кн. Г. Е. Львовым; 3) Городской Союз во главе с М. В. Челноковым; 4) Военно-Промышленный Комитет во главе с А. И. Гучковым; 5) Ставка во главе с М. В. Алексеевым 5.
Более чем двухлетний опыт службы на высших командных и штабных постах в действующей армии окончательно лишил Алексеева надежд на то, что работа правительства в существующем виде и взаимодействие с ним военных структур будут, наконец, налажены. Однако, будучи человеком, стоящим исключительно на государственных позициях, Алексеев не питал иллюзий и по поводу деятельности общественных организаций. Ориентируя главнокомандующих в отношении активности руководства Земгора, он писал: «в различных организациях мы имеем не только сотрудников в ведении войны, но получающие нашими трудами и казенными деньгами внутреннюю спайку силы, преследующие весьма вредные для жизни государства цели»6.
К началу 1917 г. высшее командование Российской армии оказалось втянутым в соперничество политических сил и группировок. Причины тому обнаруживаются как в государственно-институциональной, так и в социально-политической плоскости. С момента создания Ставки Верховного главнокомандующего не были вполне урегулированы ее статус и порядок взаимодействия со структурами гражданского управления. В условиях неудовлетворительной работы тыла деятельность Ставки и лиц, ее фактически возглавлявших, приобретала характер постоянной борьбы с правительством за интересы действующей армии, что предопределяло симпатии общественности. По мере развития военной ситуации по неблагоприятному сценарию значительная часть генералитета совершенно обоснованно прихо- дила к осознанию того, что существующий государственно-политический режим не ведет Россию и ее армию к победе. Подобное мнение имело и глубоко субъективную подоплеку: высших военных чинов устраивала позиция, когда максимум ответственности за военные неудачи и состояние войск перекладывалось на правительство. По этим причинам военное командование ситуативно становилось союзником тех сил, которые стремились к переделу власти и готовили переворот в правящем лагере. Получившие известность слова Брусилова – «Если придется выбирать между царем и Россией – я пойду за Россией» – импонировали либеральной оппозиции. Но их патриотический пафос, в сущности, маскировал политическую беспомощность. Не являясь в принципе противником царизма, военная верхушка готова была примкнуть к любой группировке, обещавшей установить сильную власть в интересах обороны.
HEAD MILITARY COMMAND AND THE POLITICAL LIFE
OF RUSSIA DURING THE FIRST WORLD WAR