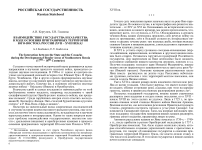Взаимодействие государства и казачества в ходе освоения приграничных территорий юго-востока России (XVII - XVIII века)
Автор: Кортунов Алексей Иванович, Годовова Елена Викторовна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 57, 2018 года.
Бесплатный доступ
Освоение приграничных территорий России растянулось на несколько столетий и способствовало возникновению самой большой страны в мире. В XVII-XIX вв. центральная российская власть, закрепляясь на определенных окраинных территориях и превращая их в плацдарм для дальнейшего расширения границ страны, стремилась заручиться поддержкой местного населения, а в авангарде освоения почти всегда стояли казаки. Нередко государству для достижения поставленных целей приходилось оказывать казакам разностороннюю помощь. В XVI-XVII вв., когда на окраинах страны еще жили вольные казачьи общины, центральным и местным властям даже приходилось сдерживать казаков, поскольку те «слишком активно» стремились расширить свои владения, тем самым увеличивая владения государства. Уже в XVIII в. власти стремились решить все территориальные вопросы на окраинах Российской империи мирными средствами. На примере юго-восточных окраин России авторы статьи попытались ответить на сложный вопрос: являлись ли казаки инструментом в руках государства или отношения между государством и казаками были взаимовыгодными? Используя ранее неизвестные архивные документы, извлеченные из центральных и региональных архивов, авторы анализируют взаимодействие государства и казаков - яицких (уральских) и оренбургских - в ходе освоения приграничных территорий юго-восточной окраины России в XVII- XVIII вв. Особое внимание уделяется регулирующей роли государства, уникальной политике разрешения неизбежных конфликтов между казаками и местным населением.
Казачество, яицкие (уральские) казаки, оренбургские казаки, яицкое (уральское) казачье войско, оренбургское казачье войско, оренбургская укрепленная линия, оренбургская губерния, река яик (урал), колонизация, кочевые народы, киргизы, каракалпаки, ногайцы
Короткий адрес: https://sciup.org/149127011
IDR: 149127011 | DOI: 10.24411/2072-9286-2018-00020
Текст научной статьи Взаимодействие государства и казачества в ходе освоения приграничных территорий юго-востока России (XVII - XVIII века)
А.И. Кортунов, Е.В. Годовова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И КАЗАЧЕСТВА В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГО-ВОСТОКА РОССИИ (XVII - XVIII ВЕКА)*
A.I. Kortunov, E.V. Godovova
The Interaction between the State and the Cossacks during the Development pf Border Areas of Southeastern Russia (l?th _ jgth Centuries)
Сегодня в отечественной исторической науке развиваются целые направления в изучении прошлого казачьих войск, проводятся солидные научные исследования. В 1990-е гг. одним из центров научных исследований казачьей истории стал Южный Урал. В Оренбурге, Челябинске, Уфе и других городах сформировались научные школы, которые и в настоящее время ведут активную научно-исследовательскую работу. Конечно же, в основном изучаются местные казачьи войска - Уральское (Яицкое) и Оренбургское.
В качестве одной из самых последних и значимых работ по этой проблематике можно выделить, например, исследование о такой специфической группе Оренбургского казачьего войска, как крещеные калмыки1. Среди зарубежных авторов стоит отметить исследования Ф. Лонгворта «Казаки. Пять столетий бурной жизни в русских степях»2 и Р. Мак-Нила «Царь и казаки»3.
Несмотря на значительный вклад современных исследователей в изучение истории казачества южно-уральского региона, еще остается достаточно много неисследованного, нуждающегося в научном переосмыслении и интерпретации. Одним из таких вопросов является проблема взаимодействия государственных институтов власти с уральскими (яицкими) и оренбургскими казаками в процессе освоения приграничных территорий Юго-востока России в XVII -
XVIII вв.
* * *
Точную дату появления первых казачьих ватаг на реке Янк определить трудно. Во всяком случае, в историографии она разнится значительно - от XIV до XVI вв. Основываясь на исторических источниках, дошедших до нашего времени, мы можем предположить, что, вероятнее всего, это случилось в XVI в. Обосновавшись в среднем течении Яика, казаки стремились присвоить себе речную пойму на всем ее протяжении, хотя в большей степени их интересовало низовье и среднее течение реки: там водилась рыба, которая являлась главным блюдом в пищевом рационе, а впоследствии и хорошим источником казачьих доходов.
В XVI в. устоять перед грозными соседями-кочевниками (кир-гиз-кайсаками, каракалпаками, ногайцами и другими) яицким казакам было сложно. Оставалось заручиться поддержкой Российского государства. Для закрепления на Янке необходимо было наладить постоянное снабжение яицкого казачества оружием, порохом и т.д. Получив поддержку молодого царя Михаила Федоровича, яицкие казаки смогли закрепиться в защищенном месте при устье реки Че-ган (Яицкий городок). Освоение казаками расположенных вдоль Яика земель растянулось на долгие годы. Расселяясь небольшими группами, вытесняя с этих территорий местное население, они смогли создать Яицкое войско.
Уже в XVII в. яицкие казаки своим владением считали всю реку Яик со всеми угодьями. Они были уверены, что имеют полное право владеть обеими сторонами реки, ссылаясь при этом на царские грамоты, законы и правительственные распоряжения разных лет4.
Пользуясь поддержкой государства, яицкие казаки стремились расширить свои владения и создать новые поселения, но в XVII -начале XVIII вв. этого сделать не удалось. Лишь в 1725 г, по прошению атамана легкой станицы Яицкого войска Василия Арапова, Военная коллегия, «во исполнение резолюции Правительствующего Сената», разрешила построить городок в устье реки Сакмара5. Так появляется Сакмарский городок. Здесь мы впервые наблюдаем прямую поддержку государством намерения яицких казаков расширить границы своего владения, продвигаясь вверх по реке.
Активное расселение казаков по Яику началось в 1730-х - 1740-х гг., после прибытия в регион Оренбургской экспедиции (с 1737 г. Оренбургская комиссия). Так, было издано несколько указов, которые способствовали созданию укрепленной линии с крепостями и редутами, что говорит об инициативе государства в освоении приграничных территорий Южного Урала, где власти делали ставку в том числе и на казачество. В этом цели государства и яицких казаков почти полностью совпадали.
Цели экспедиции свидетельствовали о том, что государство стремилось окончательно закрепиться в регионе, создав для себя надежный плацдарм. Обустройство границы и освоение прилинейных территорий являлось главной задачей, которую необходимо было решить в самые короткие сроки. В этой кампании яицким казакам отводилась особая роль. Они должны были «закрыть» границу на протяжении нескольких сотен верст - от устья реки Яик и как минимум до Яицкого городка. В данном случае речь шла о правом береге реки. Левобережье Яика власти не рассматривали как объект освоения. И это было сразу же обозначено в официальных документах6.
Хотя были и исключения. Так, единственным казачьим населенным пунктом на левой стороне Яика являлся Илецкий городок, который в 1737 г. основали малороссийские казаки. Левобережье реки было небезопасным из-за постоянной угрозы со стороны Киргизской степи. Довольно часто киргиз-кайсаки и каракалпаки устраивали набеги, угоняли скот и увозили заготовленное сено. В 1740-х гг. оренбургский губернатор И.И. Неплюев неоднократно предлагал илецким казакам переселиться на правый берег Яика, но получил отказ, ибо это привело бы их к разорению. И.И. Неплюев согласился с казаками и взял с каждого подписку, что они будут «заводить пашни и луга, а также пасти свой скот только на правой стороне Яика»7.
К середине XVIII в. от Илецкого городка до Гурьева была организована укрепленная линия, которая состояла из крепостей и форпостов. Известно, что яицкие казаки предпринимали попытки создать и «передовую линию», которая проходила по левой стороне Яика. Однако из-за постоянных набегов со стороны Киргизской степи и сложности переправы на левый берег, масштабных заградительных сооружений и сторожевых постов создать не удалось. Казаки утверждали, что левая сторона Яика им была необходима, ибо там они заготавливали сено для домашнего скота, а на правом берегу кормились лошади казаков, состоявших на кордонной службе, и тех, кто занимался рыболовством8.
Здесь явно просматривается стремление яицких казаков, вопреки всяческим запретам со стороны центральных властей и местного начальства, закрепиться по всей пойме Яика не только на правом, но и на левом берегу реки. При этом казаки шли на серьезный риск, но, по всей видимости, экономическая выгода была слишком привлекательной.
Не стоит полагать, что яицкие казаки могли заручиться поддержкой властей во всех своих начинаниях по захвату прилинейных земель. Главным «соперником» в освоении пустующих земельных угодий вдоль русла реки Яик являлись киргиз-кайсаки. В 1731 г. приграничный казахский Малый жуз официально принял русское подданство. Таким образом, властям приходилось сглаживать конфликты, возникающие между киргиз-кайсаками и яицкими казаками, так как и те, и другие являлись российскими подданными.
В начале 1740-х гг. власти обратили свое внимание на слабо защищенный участок в нижнем течении Яика. Каких-либо серьезных укрепленных пунктов от Яицкого городка до устья реки (Гурьевского городка) в то время еще не было. Соответственно, и контроль над переходом границы на данном участке не осуществлялся. Этот вопрос предстояло решить начальнику Оренбургской комиссии, а впоследствии губернатору Оренбургской губернии Ивану Ивановичу Неплюеву. Было высказано несколько предложений по обустройству Нижнеяицкой укрепленной линии: 1) поручить строительство регулярным частям, присланным из соседних губерний; 2) возложить эти обязанности на самарских и алексеевских казаков с последующим их переселением во вновь построенные крепости нижнего течения Яика и 3) поручить данное дело яицким казакам.
Рассматривались различные варианты строительства и заселения нового участка Юго-восточной пограничной укрепленной линии, но в итоге решающим стало мнение самих яицких казаков, которые, опасаясь за свой рыбный промысел и потерю владения пойменными местами реки Яик, предложили самостоятельно построить линию и наладить здесь постоянную службу. Общая протяженность участка составила более 400 верст. Всего было построено семь крепостей (Сахарная, Калмыкова, Индерская, Кулагинская, Тополевская, Баксайская, Сарайчиковская) с форпостами и редутами. В общей сложности на линию должна была выходить 1 000 казаков посменно. Самые многочисленные команды располагались в Кулагине кой крепости и Гурьевском городке9.
Яицкие казаки вынужденно брали на себя очень тяжелые обязанности по охране довольно большого участка Юго-восточной пограничной укрепленной линии, который протянулся от Гурьева городка до крепости Рассыпной. В «Наказах депутатам от дворянства, градских жителей, казацких войск, иноверцев и новокрещенных разных народов Оренбургской губернии» (1766 - 1767 гг.) отмечалось: «<...> Ныне же того Яицкаго войска всегдашняя и ординарная служба состоит в том, что она начав в Гурьеве городке вверх по Янку реке даже до Разсыпной крепости, что по течению Яика оного полутора тысячи верст сочиняет от переходу через помянутую Яик реку с одну сторону киргизцов а з другую волских калмык имеет осторожность для которой по определению правительствующего Сената в 743 году состоявшегося построены крепости и форпосты и того числа содержать в оных при особливом походном атамане с переменой тысячу человек а ежели сверх того нужда случится то из Яицкаго городка прибавляется <.. ,>»10.
Из этого документа становится ясно, почему яицкие казаки ранее не стремились обживать русло реки Яик ниже по течению от Яицкого городка. Здесь главных причин три: 1) плохой климат; 2) труднодоступные, непроходимые места; 3) опасное соседство с кир-гиз-кайсаками и калмыками. Через четверть века после устройства
Нижнеяицкой укрепленной линии казаки жаловались: «От построения и заведения тех крепостей и форпостов произошли весьма великие отягощения: 1-е что по тамошнему тяжелому и морскому воздуху с того времени несколько тысяч лошадей повалилось; 2-е как они заселены на пустом дальнем и диком и самом пограничном месте того ради хлеба туда не возвесть чего ради оное доставить великою нуждою и покупить весьма дорогою ценою...». Яицкие казаки просили, чтобы в новых крепостях за службу платили жалованье. Нередко на линию из Яицкого городка дополнительно снаряжались резервные команды до трехсот человек, но деньги им не выплачивались. Также казаки ходатайствовали о налаживании постоянных поставок в нижнеяицкие крепости провианта и фуража за государственный счет11.
В то же время остро встал вопрос о владении левым берегом Яика. Главным богатством для яицких казаков на левобережье Янка являлись сенокосные места. В большинстве случаев покосы на азиатской стороне велись ими самостоятельно, без разрешения властей. Процесс этот был сложным и опасным, так как перевозившие скошенное сено на правую сторону могли оказаться в плену у киргизов. Казаки несколько раз просили разрешения официально заниматься сенокосами на левой стороне.
В итоге 12 июля 1760 г. Оренбургским губернатором А.Р. Давыдовым был подписан указ, по которому разрешалось пользоваться сенокосами за Яиком, правда, только с условием, что при этом будет налажена охрана работников. Постепенно левобережные сенокосы стали проводиться яицкими казаками на постоянной основе почти на всем протяжении Нижнеяицкой линии. По указу Екатерины II, отданному Симбирскому и Уфимскому губернатору А.И. Апухтину в 1783 г, прилинейным киргизам запрещалось на степной стороне Урала (Яика) кочевать и пользоваться сенокосными местами ближе 15 верст. Таким образом, сенокос на левобережье реки могли вести только казаки, но официально эти земли еще не были закреплены за ними12.
Потребность в сенокосных угодьях в Уральском казачьем войске возросла в связи с развитием скотоводства. Следовательно, можно считать логичным желание прилинейных казаков окончательно закрепить за собой левую сторону Урала, которая была богата сенокосными местами.
С первой половины XVIII в. в пользовании у яицких казаков на левом берегу Яика, кроме сенокосных угодий, находились три крупных озера - Черкальское, Индерское и Грязное. Указы и грамоты 1705, 1732 и 1735 гг. давали казакам право пользоваться солью с Грязного и Индерского озер, а указ Правительствующего Сената от 28 октября 1732 г. -Черкальским озером13.
В конце XVIII в. ситуация в приграничной зоне на Юго-востоке стала меняться, потому что увеличилась плотность населения ре- 10
гиона. Это способствовало тому, что на левом берегу Урала появились многочисленные киргизские стада скота, количество которых с каждым годом росло. Казаки выступали против того, чтобы киргиз-кайсаки приводили свой скот на водопой к реке. Как писали очевидцы, киргизы вгоняли в реку огромные стада на несколько верст. Это пугало рыбу, находящуюся в «ятовьях» (рыбных ямах для зимовки и икрометания), что мешало казачьему рыбному промыслу. Пугать рыбу в Урале являлось уголовным преступлением. Сами казаки поили свои стада или в озерах, или в Урале, но всегда на одних и тех же местах (в основном напротив форпостов). Следовательно, все пространство реки между населенными пунктами (примерно от 12 до 20 верст) «пользовалось строгою тишиною»14.
Несмотря на всяческие запреты и активное противодействие казаков, киргиз-кайсаки все чаще стремились перейти на правую сторону Урала. Этот процесс остановить уже было невозможно. Привлекательными для кочевников являлись некоторые районы Волго-Уральского междуречья, а именно Камыш-Самарский и Между-Узенский. В XVIII в. местное казачество всячески стремилось освоить эти земли, богатые рыбными озерами, заливными пастбищными местами и тебенёвками (места для зимней пастьбы лошадей).
Судебные разбирательства относительно прав на владение экономически выгодными участками данных районов стали возникать, начиная с 1796 г. Казаки с давних времен занимались здесь рыболовством, охотились, добывали соль и, соответственно, считали их своими. С конца XVIII в., по инициативе центральной власти, началось заселение этих районов крестьянами-переселенцами, что впоследствии привело к еще большей неразберихе в вопросе землевладения. Кроме того, в это же время, на Между-Узенские участки переселяются башкиры из Оренбургской губернии15.
Самым спорным районом оказался Между-Узенский, который оспаривали различные группы местного населения. Эти разбирательства продолжались вплоть до второй половины XIX в.
Другая судьба оказалась у Камыш-Самарского района. В конце XVIII в. казаки наведывались сюда довольно часто. В экономическом плане данный район был очень привлекателен, но значительная отдаленность его от Нижнеяицкой линии сыграла свою роль: казаки не могли вести здесь активную хозяйственную деятельность. К тому же вопрос владения данным районом к началу XIX в. был практически решен: большую часть Камыш-Самарской округи уральские казаки потеряли из-за указа Павла I от 11 марта 1801 г, по которому киргиз-кайсакам было разрешено кочевать в междуречье Урала и Волги, что привело к образованию здесь Букеевской Орды16.
* * *
Вторым казачьим войском, располагавшимся вдоль юго-восточ- ных границ Российской империи, являлось Оренбургское.
В отличие от самостийно сформировавшегося Яицкого войска, Оренбургское было создано по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1748 г. После завершения основных мероприятий Оренбургской экспедиции, строительства целой серии крепостей вдоль границы и создания единой пограничной линии в регионе власти задумались о формировании в пограничных областях нового казачьего войскового объединения, которое было необходимо здесь для охраны. До этого в регионе уже были нерегулярные части, и они в первую очередь вошли в новое войско.
Штат иррегулярного войска определился только в 1755 г; он включал в себя почти 6 тыс. служилых людей, одни из которых получали жалование, а другие являлись «безжалованными». При этом значительная часть казаков находилась на постоянном месте жительства в дальних районах (Уфа, Самара, Алексеевск, Табынск, Нагайбак и других) и выдвигалась на границу только для охраны определенных участков линии посменно. Также до тысячи казаков служило в Оренбургском нерегулярном корпусе, располагавшемся в Оренбурге17.
Таким образом, в XVIII в. непосредственно на пограничной линии проживало немного оренбургских казаков. Опираясь на статистические материалы, можно сделать вывод, что они распределялись по крепостям равномерно - в среднем по 100 человек. При этом жалованье за службу многим не выплачивалось, что компенсировалось земельными участками на прикрепостной территории, рыбной ловлей на озерах и реках. Возможности на постоянной основе вести хозяйство у оренбургских казаков не было, что к концу XVIII в. привело к серьезным экономическим проблемам у основной массы при-линейного казачьего населения Оренбуржья. Довольно часто казаки даже не имели возможности приобрести себе лошадей и оружие для службы18. Инспекции Оренбургского войска, проводившиеся в 1780-х - 1790-х гг, доказывали данные факты.
Незначительной в XVIII в. была и роль оренбургского казачества в процессе освоения приграничных земель, хотя процветал самоза-хват земельных угодий, что приводило к частым конфликтам с местным населением.
Власти, решая земельные вопросы в прилинейных районах, старались без особой необходимости не создавать конфликтных ситуаций с местными жителями. В частности, при строительстве крепостей документально оформлялись права сторон и описывались условия пользования земельными угодьями. К примеру, Чебаркуль-ская крепость Исетской провинции была построена весной 1736 г. на земле, принадлежавшей вотчинникам-башкирам Каратабынской и Баратабынской волостей19. Для строительства новой крепости данные земли официально перешли в казну, что было закреплено документально. При этом по высочайшему повелению старшине
Таймасу Шаимову, владельцу земли, было «пожаловано тарханское звание». Также он «освобождался от уплаты в казну ежегодного ясака». К 1740 г. для упорядочения прикрепостного землепользования на чебаркульскую землю были составлены межевая книга и план20.
Несмотря на это, конфликтов в прикрепостном землепользовании избежать не удавалось. Башкиры, ссылаясь на три указа (от 20 августа 1739 г, от 7 марта 1740 г. и от 31 мая 1740 г), в которых описывались условия строительства крепостей на башкирских землях, утверждали, что они могут свободно пользоваться землями вокруг крепости. В указах прописывалось, что казаки «не должны чинить препятствий башкирам в пользовании прикрепостных земель»21.
В свою очередь, чебаркульские казаки приводили свои доводы. Например, тот, что по указу от 7 марта 1740 г, который последовал из Канцелярии Оренбургской комиссии в Исетскую провинциальную канцелярию и был утвержден именным указом от 31 мая 1740 г.22, башкирам запрещалось выпускать своих лошадей на казачьи земли, так как арендная плата к этому времени уже была произведена. Тем более в 1740 г. все земли при данных крепостях были размежеваны, и башкиры с результатами разграничения были согласны23. Конфликт в судебном порядке был разрешен только в 1840-х гг.
Большая часть казаков оренбургских крепостей жаловалась на то, что на выданных им землях довольно часто селились представители других сословий. Прикрепостные казачьи земли не везде были размежеваны и имели план. При некоторых крепостях в XVIII в. казачьи земли так и не получили своего юридического оформления, что приводило к постоянным конфликтным ситуациям, а самое главное - способствовало распространению захватов крепостными жителями не только больших земельных участков на прикрепост-ной территории, но и богатых сенокосами и рыболовецкими угодьями речных пойм.
Судя по датированным 1798 г. отчетам комендантов крепостей, где проживали оренбургские казаки, значительная часть казачьих земель не могла быть обозначена в документах с точными границами и площадью. Это были в основном пойменные места для сенокоса, земли по берегам рек, удобных для рыбной ловли, пахотные участки и т.д., находящиеся на более чем 20-верстном расстоянии от самой крепости, где проживали казаки24.
Таким образом, можно утверждать, что правовое регулирование землепользования по Оренбургской укрепленной линии в XVIII в. находилось на начальной стадии.
* * *
Итак, казачество уже в XVII в. начинает активно осваивать побережье Яика. Пойменные луга, расположенные на левом берегу реки, они использовали для сенокошения, в притоках Яика и крупных во- доемах ловили рыбу.
В первой половине XVIII в. яицкие казаки активно колонизируют земли вдоль пограничной линии. В регионе наблюдается рост численности Яицкого казачьего войска, развивается казачье хозяйство, осваиваются новые экономически выгодные промыслы. Все это способствовало активизации борьбы за земельные угодья не только в приречной зоне (именно с этого времени остро встает вопрос освоения левого берега Яика), но и в Волго-Уральском междуречье - за Между-Узенский и Камыш-Самарский районы. В это же время в регионе наблюдается увеличение численности киргиз-кай-саков. По причине недостатка пастбищных мест они стали использовать пойменные луга левобережья Яика и периодически переходить на правую сторону реки, что приводило к частым конфликтам с казаками. Власти, пытаясь решить эти противоречия, приступили к разграничению владений казаков и кочевников25.
Уже в XVIII в. яицким (уральским) казакам разрешается вести рыбный промысел на крупных озерах левого берега реки. А к началу XIX в. за уральскими казаками было закреплено исключительное право пользования сенокосными лугами на некоторых участках левой стороны Яика.
В Оренбургском казачьем войске ситуация была несколько иная, поскольку оно окончательно оформилось только в середине XVIII в. Оренбургское казачество преимущественно расселялось по при-линейным крепостям, где земельный вопрос являлся острым и нуждался в особом подходе. Юридического оформления прилинейное землепользование еще не получило. Поэтому казаки преимущественно сами решали вопросы, связанные с использованием тех или иных угодий. При этом самовольный захват земель на линии был чреват серьезными конфликтами с местными жителями и разбирательством по этому поводу на всех уровнях. Власти старались по мере возможности регулировать земельные отношения на границе, но довольно часто сделать это было сложно из-за неразберихи в правах на землю.
Список литературы Взаимодействие государства и казачества в ходе освоения приграничных территорий юго-востока России (XVII - XVIII века)
- Джунджузов С.В., Любичанковский С.В. Калмыки на Южном Урале в XVIII - начале XX века: Проблемы ассимиляции, аккультурации и сохранения этнической идентичности // Былые годы. Российский исторический журнал. 2017. Т. 46. № 4. С. 1194-1206.
- Longworth Ph. The Cossacks: Five Centuries of Turbulent Life in the Russian Stepps. New York: Holt, Rinehalt and Winston, 1970.
- McNeal R.H. Tsar and Cossack, 1855 - 1914. London: The Macmillan Press, 1987.
- Витевский В.Н. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 года. Т. 1. Казань, 1897. С. 270.
- Кортунов А.И. Освоение Уральским казачеством левого берега реки Урал в XVIII - начале XIX вв. // European Social Science Journal. 2014. № 9-1 (48). С. 326-333.
- Рябинин А.Д. Уральское казачье войско. Ч. I. Санкт-Петербург, 1866. С. 109;
- Кортунов А.И. Освоение Уральским казачеством левого берега реки Урал в XVIII - начале XIX вв. // European Social Science Journal. 2014. № 9-1 (48). С. 326-333.
- Кортунов А.И. Освоение Уральским казачеством левого берега реки Урал в XVIII - начале XIX вв. // European Social Science Journal. 2014. № 9-1 (48). С. 326-333.
- Машин М.Д. Из истории родного края: Оренбургское казачье войско. Челябинск, 1976. С. 83.
- Избасарова Г.Б., Любичанковский С.В. Приставства на окраинах Российской империи в XVIII - первой половине XIX в.: От административного лица к системе управления // Российская история. 2018. № 2. С. 13-21.