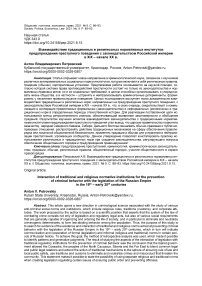Взаимодействие традиционных и религиозных нормативных институтов предупреждения преступного поведения с законодательством Российской империи в XIX - начале XX в
Автор: Петровский Антон Владимирович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 9, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья открывает новое направление в криминологической науке, связанное с изучением различных антикриминальных социальных норм и институтов, которые включают в себя религиозные правила, традиции (обычаи), корпоративные установки. Предлагаемая работа основывается на научной позиции, согласно которой система права противодействия преступности состоит не только из законодательства и нормативных правовых актов, но и из социальных требований, в целом способных организовывать и упорядочивать жизнь общества, а в частности - устранять и нейтрализовывать криминогенные детерминанты, формировать у населения правопослушное поведение. Целью исследования выступает поиск доказательств взаимодействия традиционных и религиозных норм, направленных на предупреждение преступного поведения, с законодательством Российской империи в XIX - начале XX в., что, в свою очередь, свидетельствует о коммуникации и кооперации превентивных формальных (законодательства) и неформальных (религиозных и традиционных) норм в определенные периоды отечественной истории. Для реализации поставленной цели использовался метод ретроспективного анализа, обеспечивающий выявление закономерности и обобщение суждений. Результатом изучения аспектов взаимодействия законодательства с традиционными нормативными институтами предупреждения преступного поведения стал вывод, что царское правительство позволяло казачеству, народам Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока смешивать обычно-правовые и публичноправовые отношения, распространять действие традиционных механизмов на сферу обеспечения правопорядка или локальной общественной безопасности, применять традиции и обычаи для устранения и нейтрализации преступлений, угрожающих сообществу. Данное утверждение позволяет констатировать практику использования религиозных и традиционных норм при создании законодательства, регулирующего вопросы обеспечения общественного порядка и предупреждения правонарушений.
Предупреждение преступлений, криминология, криминологическое законодательство, традиции, обычаи, религиозные правила, общественный порядок, участие общественности в охране правопорядка
Короткий адрес: https://sciup.org/149137202
IDR: 149137202 | УДК: 343.9 | DOI: 10.24158/pep.2021.9.15
Текст научной статьи Взаимодействие традиционных и религиозных нормативных институтов предупреждения преступного поведения с законодательством Российской империи в XIX - начале XX в
Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия, ,
Kuban State University, Krasnodar, Russia, ,
Возможность объективно изучить аспекты взаимодействия законодательства с традиционными нормативными институтами предупреждения преступного поведения предоставляет ретроспективный анализ, позволяющий рассматривать указанные нормативные институты как единый смысловой контекст исторически-правового развития страны. Нормативная антикриминальная культура русского народа имеет гетерогенный характер, объединяя компоненты европейского индивидуализма с этнической общинностью и коллективизмом. Традиционные криминорези-стентные нормы являются продуктом соприкосновения славянского этноса с самобытной моделью государственного управления, другими народами, христианской религией, базируются на патриархальных и архаичных нормах различных народностей (славян, чуди, марийцев, татар и др.), которые создал русский этнос. Поэтому отличительной чертой русского фольклора выступают героические и патриотические народные произведения, где отражается традиции вольнолюбия, справедливости, взаимопомощи, осуждения неправедного получения богатства, помощи малоимущим [1].
Большую роль в формировании антикриминального сознания сыграла религия. Господствующая в имперский период христианская церковь заботилась о бедных, больных, сиротах, заключенных, устраивала больницы и приюты, в основном при монастырях, а государственная власть оказывала помощь, освобождая от государственных налогов [2, c. 240–243]. Православная церковь изначально возложила на себя обязанности посещать тюрьмы, ходатайствовать об освобождении невинных, наставлять на путь истинный виновных, снабжать узников пищей, одеждой, помогать с судебной защитой, принимать меры к их нравственно-религиозному исправлению. В ходе развития системы права противодействия преступности России в XVIII–XIX вв. центральная власть адаптировала религиозные нормы к реципированными из немецкого и французского уголовного законодательства положениям, где государство для придания эффективности правовым нормам активно использовало традиционные ценности, прежде всего религию [3, c. 284–285]. Создавая систему уголовного судопроизводства, власть идеологически обосновывала ее функционирование убеждением граждан в ее сакральности, справедливости и необходимости. Ставшие в начале XVIII в. государственными служащими православные священники и мусульманские муллы были включены в общую систему профилактического полицейского надзора за гражданами. Священнослужители, выполняя пропагандистские функции, объясняли божественным промыслом решения и действия императорской власти населению. Кроме того, все священнослужители обязаны были надзирать за своей паствой, информировать жандармерию о посещении служб, исполнении религиозных обрядов, потому что длительное непосещение церкви, уклонение от исповеди, евхаристии были основанием для введения полицейского надзора, а для чиновников – признаком неблагонадежности [4, c. 119–120].
Рассматривать Российскую империю как «тюрьму народов» не совсем верно, поскольку власть идентифицировала население не по национальному принципу, а по конфессиональному, сословному и региональному [5]. Государственная политика строилась на идеологической и сакральной основе «самодержавие, православие, народность», однако огромное пространство вынуждало наделять некоторые местные учреждения или народных лидеров административными правами и обязанностями, приспосабливать в интересах империи традиционные институты различных народов [6, с. 37]. Сохранение свойственных им форм самоуправления, базирующихся на нормах обычного (традиционного) права, определялось Уставом об управлении инородцами и Положением об инородцах [7]. Российская императорская администрация прекрасно осознавала, что поддержание общественного порядка на такой огромной территории требует специального подхода, поэтому «при помощи одних и тех же учреждений и приемов нельзя управлять туркменами и великороссами, бродячими инородцами в Сибири и кавказскими племенами, ко-кандцами и немцами, Финляндией и Польшей» [8, с. 181].
Император Николай I своим Наказом определил административные функции, в том числе правоохранительные права и обязанности, которые должны исполняться «без всякого противодействия вековым понятиям жителей», а судебные процедуры должны учитывать народные обычаи и традиции [9, с. 9–10]. Российская империя из огромного количества нормативных традиционных институтов вычленяет и поддерживает правила и обычаи, сохраняющие патриархальные институты домашней власти, регулирующие формы примирения между конфликтующими сторонами, определяющие порядок оценки или выплаты потерпевшей стороне денежной компенсации за причиненный ущерб, обеспечивающие общественный порядок в районах проживания местного населения [10, с. 45]. Основу крестьянского самоуправления в империи составляла община (вервь), в чью компетенцию входили вопросы, касающиеся привлечения к ответственности за проступки против общества, на которую возлагались обязанности по осуществлению ряда следственных действий (задержание, опросы), а также контроль за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы [11, с. 6–7].
Изначально военные губернаторы создавали из «мирных горцев», желающих служить империи, отряды временной милиции, которые выполняли военно-полицейские функции – патрулирование дорог, борьбу с разбойниками и абречеством, обеспечение общественного порядка на территориях, где проживало местное население [12, с. 92; 13, с. 35]. К окончанию Кавказской войны царское правительство, желая совместить государственное законодательство и традиционные нормы, привлечь на свою сторону мусульманское духовенство, формирует военно-народную систему управления, которая просуществовала до 1917 г. Положение об управлении Дагестанской областью определяло, что к местному населению применяются народные обычаи и особые постановления, судопроизводство ведется разными судами, но допускается рассмотрение дел по нормам адата, в некоторых случаях – по шариату при условии наблюдения за процессом со стороны военной администрации [14, с. 35–36]. Наряду с Дагестанским областным судом и окружными судами, рассматривающими гражданские и уголовные дела, учреждался Дагестанский народный суд (туземный), допускалось создание окружных судов из депутатов от народа, кадия и секретаря. Народным (туземным) судам были подсудны дела по заявлениям о краже, побоях, похищению женщины, грабеже при условии отсутствия опасности для здоровья и жизни потерпевшего в результате преступных действий; по семейным спорам между мужем и женой; нарушению мусульманами религиозных норм [15]. Полицейские функции наряду с полицией осуществляли наибы, управляли селениями выборные старейшины. Деятельность традиционных (аульных) судов, которые состояли из трех избранных сообществом судей, распространялась на все тяжбы на сумму до 100 р. Народные суды имели право приговаривать виновных к удовлетворению имущественных претензий заявителей и налагать взыскания за следующие правонарушения: 1) порчу воды в реках и колодцах; 2) продажу испорченных съестных припасов, а также обмеривание и обвешивание при мене или продаже имущества; 3) неоказание помощи при наводнении, пожаре; 4) оскорбление словом в мечети и при собрании народа; 5) удар рукой, ногой, палкой без наступления в результате вреда здоровью; 6) умышленную потраву чужого поля; 7) порчу забора; 8) несообщение об обнаруженном приблудившемся и бесхозном скоте; 9) приобретение заведомо похищенного имущества; 10) несообщение о находке чужих вещей или денег; 11) умышленную растрату работником хозяйского имущества; 12) совершение кражи или мошенничества на сумму не свыше 30 р. и в первый раз; 13) удаление из селения порочных лиц [16, c. 117]. Все споры и тяжбы решались устно на основании народных обычаев (традиций).
В начале XX в. царская власть использует народные обычаи и традиции в процессе предупреждения преступлений при условии их политической благонадежности и непротиворечия основным нравственным принципам государства, а также лояльности аульских сельских обществ. Вся жизнь горцев регламентировалась Положением об аульских обществах и горском населении Кубанской и Терской областей и Положением о сельских обществах их общественном управлении и повинностях государственных и общественных в Дагестанской области [17, c. 20–21]. Полицейские функции выполнял сельский старшина, который избирался тайным голосованием на сходе. Он обязан был поддерживать общественный порядок, докладывать окружному начальству о совершенных преступлениях, исполнять решения аульного суда. Царские власти благосклонно относились к деятельности примирительных комиссий, функции которых осуществлялись на основе норм шариата и адатов наиболее уважаемыми и авторитетными жителями, чаще всего являвшимися кандидатами или судьями сельских судов. Сферой деятельности таких комиссий выступало урегулирование ущерба, причиненного кражей, телесными повреждениями, изредка согласовывался размер ущерба в результате причинения смерти по неосторожности [18, c. 186].
Народам Севера и Сибири царская власть позволяла исповедовать язычество или ислам, жившие отдельными деревнями включались в число государственных крестьян с освобождением от воинской повинности, а состоявшие в казачьем звании – оставались в этом звании. Кочующие народы управлялись по законам и обычаям, которые были свойственны каждому племени. Основным законом, регламентирующим отношения царских администраций с кочевыми и бродячими народами Севера, Сибири, было Положение об инородцах 1892 г., которое и определяло сферу взаимодействия племен и правоохранительных органов по охране общественного порядка [19]. За представителями элиты этих народов сохранялись почетные и родоплеменные звания. Управление народами осуществлялось их родоначальниками и почетными людьми, из них же составлялись органы местного самоуправления – родового самоуправления – и назначались должностные лица (старосты и их помощники). За ними сохранялись все находившиеся в их владении по древним правам земли, при недостатке земель им отводились дополнительные, из государственного запаса. Северные и сибирские инородцы имели полную свободу заниматься земледелием, скотоводством и местными промыслами, указанная деятельность имперским законодательством не регулировалась. Они не платили государственных и губернских денежных повинностей. Русским запрещалось селиться на землях туземных народов Севера и Сибири. Уголовной ответственности, с рассмотрением дела в окружном или губернском суде, представители данных народов подлежали только за преступления против государства, убийства, разбойные нападения.
Административно-хозяйственные отношения с казачеством Российская империя строила на основе обычного права, когда каждый издаваемый закон учитывал этнические особенности той местности, на которую будет распространяться его юрисдикция [20, c. 194–195]. Важной привилегией казачества оставалось право владения, ношения огнестрельного боевого оружия. Общественное самоуправление казачьих территорий было организовано таким способом, чтобы права и обязанности органов самоуправления соответствовали общинным традициям [21]. Авторитет обычаев (традиций) на казачьих территориях был велик, и он реализовывался при поддержании общественного порядка. Помогали администрации в казачьих поселениях «институт почетных стариков», аналогия совета старейшин у кавказских народов, а также станичный сход. Регулировали жизнь на территориях, где проживали казаки, Положение об общественном управлении в казачьих войсках и Положение об общественном управлении станиц казачьих войск [22]. Органы управления в казачьих станицах состояли из станичного сбора, станичного атамана, станичного правления, станичного суда. Одной из важных задач станичного сбора наряду с хозяйственными и управленческими выступали сохранение и утверждение древних обычаев, доброй нравственности в семейных делах, чинопочитания и уважения старших, выявления подозрительных людей, бродяг и нищих. Станичный сбор был правомочен разбирать следующие вопросы, относящие к предупреждению преступлений: 1) жалобы о нарушении интересов станичного сообщества; 2) удаление из станичного сообщества вредных и порочных людей обоих полов и лишение домохозяйства за проступки против общины; 3) деятельность опекунов и попечителей.
Важной фигурой в организации местного самоуправления и охраны общественного порядка был станичный атаман, который, кроме административных функций, еще должен был выполнять обязанности хранителя традиционных сакральных и материальных ценностей, распределителя материальных благ [23]. Атаман станичного сообщества (юрта) наделялся следующими полицейскими функциями: 1) наблюдать, чтобы никто не распространял слухи и ложную информацию среди жителей; 2) охранять общественный порядок, обеспечивать безопасность, защищать имущество от преступных посягательств; 3) предупреждать лесные, полевые пожары и незаконные вырубки леса; 4) нейтрализовывать последствия пожаров, наводнений, болезней скота и других бедствий; 5) предупреждать преступления и проступки; 6) исполнять приговоры станичных судов; 7) наблюдать за членами общественного правления; 8) противодействовать растрате станичного общественного имущества [24].
Судебная власть на казачьих территориях состояла из суда станичных судей, которые в воскресенье или праздничный день разбирали имущественные споры и малозначительные проступки, совершаемые жителями станицы. Таковыми были проступки, не содержащие квалифицированных признаков кражи, мошенничества, покупка имущества стоимостью не выше 30 р., заведомо приобретенного преступным путем, оскорбления, побои, пьянство, нарушение общественной тишины и спокойствия. Одним из условий постановления решения станичного суда являлось возложение обязанности на виновного возвратить похищенное имущество или возместить причиненный вред либо убыток, если потерпевший этого потребует. Подсудность распространялась только на жителей станичного общества (станичный юрт), в случае если проступок совершался в соучастии с жителем другого станичного общества или устанавливался факт множественности деяний, материалы дела передавались в мировые и окружные суды. Существовал еще суд почетных судей, деятельность которого распространялась на несколько станичных общин. Он выполнял функции апелляции, куда могли подать жалобу несогласные с решением станичного суда и недовольные потерпевшие. Надзор за деятельностью станичных и хуторских органов управления вели атаманы отделов (районов), областные и войсковые наказные атаманы. Решения и приговоры станичных судей (почетных судей) отменялись областными, войсковыми хозяйственными правлениями.
В заключение необходимо отметить, что с приходом России на Дальний Восток, Северный Кавказ, в Среднюю Азию, с введением в сферу государственного управления казачьих территорий царское правительство пришло к выводу, что некоторые положения законодательства, регулирующие отдельные вопросы обеспечения общественного порядка, должны базироваться на обычном праве. Детальное изучение органов управления, нормативных правовых актов периода Российской империи позволяет сделать вывод, что, несмотря на давление со стороны царского правительства, казачеству, народам Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока позволялось смешивать обычно-правовые и публично-правовые отношения и распространять действие традиционных механизмов на область обеспечения правопорядка и локальной общественной безопасности, использовать традиции и обычаи для устранения и нейтрализации преступлений и проступков, угрожающих сообществу.
Взаимодействие традиционных, религиозных нормативных институтов с антикриминаль-ным законодательством в имперский период России основывалось на следующих концепциях: 1) сформированности «российского традиционного образа справедливости», который ассоциировался с правдой, добром, честностью, воздаянием по заслугам, взаимопомощью, осуждением неправедного получения богатства, помощью попавшим в беду; 2) адаптировании религиозных норм к государственному законодательству для сакрализации принуждения и необходимости жестко реагировать на нарушения уголовного закона; 3) сохранении патриархальных институтов родовой власти, не противоречащих главным нравственным принципам государства, для регулирования внутрисемейного воспитания, примирения конфликтующих сторон, оценки или выплаты потерпевшей стороне денежной компенсации за причиненный ущерб, обеспечивающих общественный порядок в районах проживания местного населения; 4) привлечения общественности к правоохранительной деятельности и наделения социума полномочиями по обеспечению общественного порядка.
Список литературы Взаимодействие традиционных и религиозных нормативных институтов предупреждения преступного поведения с законодательством Российской империи в XIX - начале XX в
- Беспалова Т.В. Роль государственного и народного патриотизма в сохранении культуры и русской цивилизации // Культурная жизнь Юга России. 2018. № 4 (71). С. 17–21.
- Скоморох О.А. История тюремного служения христианской церкви в связи с пенитенциарными реформами XVIII–XIX вв. // Вестник христианской гуманитарной академии. 2011. Т. 12, № 1. С. 240–249.
- Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовая традиция как социокультурное средство повышения эффективности законодательства // Юридическая техника. 2016. № 10. С. 282–290.
- Коржихина Т.П., Сенин А.С. История российской государственности. М., 1995. 347 с.
- Земцов Б.Н. Политика царского правительства по отношению к этническим регионам России (XVI–XIX вв.) // Вестник Кемеровского государственного университета. 2019. Т. 21, № 3. С. 595–605. https://doi.org/10.21603/2078-8975-2019-21-3-595-605 ;
- Леонтьева О.Б. Национальная и конфессиональная политика Российской империи в современной историографии // Вестник Самарского государственного университета. История, педагогика, филология. 2012. № 8-2 (99). С. 27–46.
- Дзидзоев А.Д. Возникновение, становление и развитие основных институтов права на Северном Кавказе в XIX – первой трети XX в. // Юридический вестник ДГУ. 2016. № 2. С. 33–37.
- Устав об управлении инородцев от 22 июля 1822 г. // Полное собрание законов Российской империи с 1948 г. Т. 38, № 29. СПб., 1830. С. 394–416.
- Градовский А.Д. Собрание сочинений. В 9 т. Т. 9. Начала русского государственного права. Ч. III. Органы местного самоуправления. СПб., 1904. 599 с.
- Наказ Главному управлению Закавказским краем. СПб., 1842. 44 с.
- Абдуллаев М.Н. Традиционная система права и проблемы нормативного регулирования межэтнических отношений в Дагестане // История государства и права России. 2011. № 21. С. 43–46.
- Исаев С.И. История государства и права России : курс лекций. М., 1993. 797 с.
- Кулешин М.Г. Горская милиция на страже порядка в Терской области во второй половине XIX – начале XX в. // Вестник РУДН. Сер.: История России. 2009. № 1. С. 90–94.
- Кумпан В.А. Народы Кавказа на защите правопорядка и России: горская временная милиция (конец XIX – начало XX в.) // Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 5 (27). С. 33–36.
- Исмаилов М.А., Сулейманов З.М. Судебная система Дагестанской области в составе судебной системы Российской империи: особенности адаптации и интеграции // Юридический вестник ДГУ. 2016. Т. 19, № 3. С. 29–36.
- Халифаева А.К. Создание Дагестанской области (по положению об управлении Дагестанской областью и Закатальским округом от 5 апреля 1860 г.) // Государство и право. 2005. № 3. С. 90–96.
- Кузьминов П.А., Тхабисимова Л.А. Трансформация аульного управления в Кабарде и Балкарии в научном кавказоведении // Научная мысль Кавказа. 2014. № 3 (79). С. 116–125.
- Джалилов Ш.Н., Магомедсаидов М.М. Сельские должностные лица в Дагестанской области по «Положению о сельских обществах, их общественном управлении и повинностях государственных и общественных в Дагестанской области» от 26 апреля 1868 г. // Юридический вестник ДГУ. 2015. Т. 15, № 3. С. 16–21.
- Абазов А.Х. Интеграция медиаторских судов Кабардинцев в правовую систему Российской империи в XIX в. // Вестник СПбГУ. Сер. 2: История. 2012. Вып. 4. С. 185–188.
- Положение об инородцах // Свод законов Российской империи. СПб., 1897. Т. 2, ч. 1. С. 303–338.
- Книевский С.А. Обычное право в системе терского казачьего самоуправления в XIX в. // Вестник Ставропольского государственного педагогического института. 2008. № 11. С. 185–195.
- Краснов С.Ю. Функционирование органов территориального общественного самоуправления по обычному праву у донских казаков во второй половине XIX в. // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5: Юриспруденция. 2010. № 1 (12). С. 37–47.
- Положение об общественном управлении станиц казачьих войск от 13 мая 1870 г. // Памятная книжка Кубанской области на 1874 г. Екатеринодар, 1873 ; Положение об общественном управлении станиц казачьих войск от 3 июня 1891 г. // Собрание узаконений и распоряжений Правительства. 1891. № 73. Ст. 771.
- Рыблова М.А. Казачий атаман: статус, функции и атрибуты // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4: История. Регионоведение, международные отношения. 2006. № 11. С. 83–95.
- Краснов С.Ю. Традиционный порядок разрешения споров в обычных народных судах у донских казаков во второй половине XIX в. // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5: Юриспруденция. 2012. № 2 (17). С. 76–84.