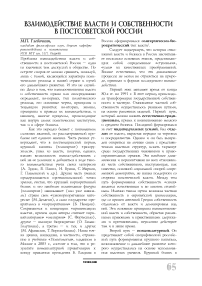Взаимодействие власти и собственности в постсоветской России
Автор: Глебочкин М.П.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Россиеведение
Статья в выпуске: 1 (5), 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14720394
IDR: 14720394
Текст статьи Взаимодействие власти и собственности в постсоветской России
Как это нередко бывает с пониманием сложных явлений, по рассматриваемой проблеме нет единого мнения. Часть ученых утверждают, что в постъельцинский период крупный капитал («олигархи») «разоружился», ушел из власти, получив, однако, взамен возможность взаимо-действовать с ней на ее условиях и добиваться в ходе такого взаимодействия учета своих интересов (А. Зудин, Я. Паппэ, И. Бунин, С. Марков, Г. Павловский и др.). Другая часть ученых придерживаются противоположной точки зрения, считая, что крупный корпоративный бизнес и его наиболее влиятельные фигуры («олигархи») навязывают (или уже навязали) стране свои «узкокорпоративные интересы» (М. Делягин), а само государство превратилось в «корпоративное» (Б. Немцов). Сохраняются и концепции «приватизации власти», причем одни авторы считают «приватизаторами» «олигархов» (С. Фортескью), другие — высшую бюрократию (О. Гаман-Голутвина), а третьи — и тех, и других (М. Афанасьев, Т. Ворожейкина). Наша точка зрения, нашедшая, в частности, отражение в учебнике «Политология», изданном в Москве в 2003 г., состоит в том, что в результате номенклатурной приватизации к концу правления президента Б. Ельцина в
России сформировался олигархическо-бюрократический тип власти1.
Следует подчеркнуть, что история отношений власти и бизнеса в России насчитывает несколько основных этапов, представляющих собой определенные «ступеньки», «узлы» их качественных преобразований. Вполне естественно, что эти динамичные процессы не могли не отразиться на природе, правилах и формах исследуемого взаимодействия.
Первый этап занимает время от конца 80-х гг. по 1991 г. В этот период происходила трансформация государственной собственности в частную. Становление частной собственности осуществлялось разными путями, на основе различных моделей. Первый путь, который можно назвать естественно-традиционным, привел к возникновению мелкого и среднего бизнеса. Последний формировался за счет индивидуальных усилий , был отделен от власти, вырастая нередко из торговли и посредничества. Однако и он был вынужден опираться на личные связи с представителями властных структур, искать «крышу» среди государственных чиновников и правоохранительных органов. Эта наиболее динамическая и перспективная во всех отношениях часть собственников, выступающая, как известно, основной социальной опорой современной демократии, не нашла поддержки со стороны политической власти. Между тем путь формирования собственности «снизу» является естественным и во многом стихийным. Именно таким путем возникла частная собственность в европейской цивилизации, где со времен античной Греции собственность отделилась от власти и доминировала над ней. Эти основные принципы взаимоотношений власти и собственности, обрастая различными правовыми и нравственными сдержками и противовесами, неуклонно действуют там и в наше время.
Второй путь — номенклатурный . Он представляет собой специфический российский путь формирования крупного капитала, возникновение и дальнейшее развитие которого осуществлялись на основе использования властных рычагов. Крупный бизнес в
России был создан преимущественно политическими методами, всегда ощущал зависимость от политических структур и государственных чиновников высокого уровня. Поэтому на первых порах власть доминировала над ним. Партийная, советская, комсомольская номенклатура, находясь непосредственно у главных рычагов власти, еще до официальной приватизации начала «спонтанно» конвертировать власть и свой статус в частную собственность, стремительно превращаясь в финансовую, а затем финансово-промышленную элиту.
Логика развития элиты состояла в том, чтобы, конвертировав власть в собственность и приумножив их, превратиться из управляющей силы , какой она была в советское время, в полноценного собственника . При номенклатурной приватизации решающими для достижения успеха в бизнесе стали не столько выдающиеся предпринимательские способности, интеллект и волевые качества, сколько личные связи в высших коридорах власти. Этот путь характеризуется тем, что крупный капитал формируется «сверху» и вырастает из политической власти и государственной собственности.
В России сформировался еще особый тип собственника — менеджера-управленца, или директората. Это стало возможным в результате того, что руководители государственных предприятий, получившие широкие полномочия для предпринимательской деятельности, с большой пользой использовали их в своих корыстных интересах. После принятия закона о кооперации (1988 г.) и до начала массовой приватизации (1992 г.) одной из форм предпринимательства было создание различного рода коммерческих структур при государственных предприятиях. Вскоре многие директора осознали, что фактически начавшееся разгосударствление «развяжет им руки» и укрепит статус «своих» предприятий. Во многом им способствовала появившаяся в 1990 г. влиятельная общественная организация — Научно-промышленный союз, преобразованный в 1992 г. в Российский союз промышленников и предпринимателей — РСПП, который возглавил опытный политик, в прошлом член ЦК КПСС А. Вольский.
Директорский корпус через различные кооперативы, малые предприятия и коммер- ческие структуры перекачивал государственные финансовые и материальные ресурсы в формирующийся частный сектор. Последствия этого были двоякими: с одной стороны, разрушалась плановая государственно-распределительная система и создавались необходимые условия для рыночных отношений, а с другой — расхищалась государственная собственность, росла коррупция, обогащалась хозяйственно-административная верхушка, шел отток капитала из материального производства и формировался торгово-спекулятивный и финансово-ростовщический капитал.
Для постсоветской России характерен еще один, бандитско-мафиозный, путь формирования частной собственности. Дело в том, что распад государства (прежде всего армии и правоохранительных органов) создал благоприятные условия для захвата части государственной собственности (и притом не малой) различными мафиозными структурами (А. Быков и др.).
Таким образом еще до процесса официальной либерализации и приватизации огромные массы капитала из государственной экономики перешли в частные руки.
Содержание второго этапа (1991 — 1996 гг.) включает в себя начало массовой ваучерной приватизации, принятие новой Конституции 1993 г. и проведение залоговых аукционов (1995 — 1996 гг.). Первоначально характер отношений власти и бизнеса на этом этапе можно определить как отношения патрона и клиента . Термин «патрон», в дословном переводе с латинского, означает «защитник, покровитель», а «клиент» — «послушный, покровительствуемый». В данном случае роль патрона принадлежала государству в лице его высокопоставленных чиновников, которые оказывали всяческое покровительство своим клиентам, т. е. бизнес-элите.
Новая Конституция закрепила на высшем юридическом уровне плюрализм форм собственности, в том числе (и это важно подчеркнуть) Основной Закон гласит: «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности»2. Данное положение предоставило исполнительной власти право владения и распоряжения государственной соб- ственностью и позволило ей также на легитимной основе организовать проведение приватизации общенародной собственности путем ее акционирования.
Процесс сближения государства и крупной бизнес-элиты значительно ускорился с проведением залоговых аукционов. До их начала бизнес-элита состояла из финансистов, имеющих тесные связи с политической властью. Но ее роль в экономике не была существенной: крупные промышленные предприятия ей еще не принадлежали. Залоговые аукционы как раз и помогли бизнесу, опираясь на личные связи в верхних эшелонах власти, выгодно вложить свои деньги в реальный сектор экономики. В результате самые «лакомые куски» государственной собственности (нефтяные, металлургические, горнодобывающие компании) перешли в руки нескольких финансовых групп. Отныне их политический вес не исчерпывался финансовыми и политическими ресурсами, а дополнялся еще и реальным экономическим весом. Так родились финансово-промышленные группы.
Сотрудничество ФПГ с государством было настолько тесным, что порой трудно было отличить чиновника, патронирующего бизнес, от крупного предпринимателя, вхожего в кремлевские коридоры власти. Чиновники состояли на службе у крупных бизнесменов, получая от них регулярное вознаграждение, не сравнимое с официальной заработной платой (это по сути своей, возрождение в новых условиях известного в истории России института «кормления», когда посылаемым на места чиновникам не платили, а предоставляли возможность «кормиться» за счет поборов с населения), бизнесмены пользовались привилегиями в получении кредитов, выхода на рынки, доступа к нефтяным трубам и т. д.
Как выяснилось в последствии залоговые аукционы были проведены с массой нарушений, порожденных не отсутствием опыта или незнанием. В «продаже задарма» госсобственности были заинтересованы обе «договаривающиеся стороны» — и банкиры, и чиновники, стремящиеся извлечь максимальную выгоду.
Таким образом, на втором этапе в характере взаимодействия власти и собственности произошла важная эволюция. Если вначале это были отношения патрона и клиента, то в конце они обрели характер своеобразного партнерства. Основу партнерства же двух групп составляли номенклатурное происхождение и общие коренные интересы. Его следствием стало формирование в стране системы правления, получившей название олигархической. Суть системы заключается в том, что политические и экономические ресурсы находятся в руках небольшой кучки людей, непосредственно определяющих развитие страны. Так произошло окончательное сращивание власти и капитала.
Подарок олигархам в виде залоговых аукционов многие считают неслучайным. По мнению экономиста А. Бунича, «это была плата Б. Ельцина за победу на президентских выборах 1996 г. Но и этим дело не ограничилось. Началась мутация самих структур власти. Получив контроль над ключевыми отраслями экономики, олигархи стали диктовать свою волю Кремлю»3.
Качественные изменения природы взаимоотношений политической власти и крупных собственников произошли на последующем этапе (1996 — 1999 гг.), основным содержанием которого стали выборы президента и расцвет олигархии. Возникшая новая экономическая элита установила прямые , личные и внеинституциональ-ные связи с высшими структурами власти, когда патронаж уступил место симбиотическим отношениям , приносящим обоюдную пользу.
Уже в ходе избирательной кампании олигархи установили прямые связи с высшим руководством страны, а после выборов представители олигархических структур были включены в верховные органы власти: банкир В. Потанин стал одним из первых вице-премьеров правительства, финансист Б. Березовский — заместителем секретаря Совета безопасности и т. д. В СМИ заговорили о «семерке» наиболее приближенных к федеральной власти представителей финансово-промышленных групп. Как правило в этой связи чаще всего назывались имена Б. Березовского, В. Гусинского, В. Потанина, М. Ходорковского, А. Смоленского, М. Фридмана, П. Авена. Именно они составили некий внеинституциональный комитет под названием «Семибанкирщина» (по аналогии с
«Семибоярщиной»), который фактически правил страной с 1996 по 1999 гг.
Небольшая группа бизнесменов получила постоянный доступ к «телу» власти, оказывая на нее наиболее сильное влияние, которое осуществлялось по неофициальным, личным каналам. Это был уже не столько лоббизм, сколько прямое, непосредственное участие во власти, а его олицетворением стало «Семья».
Кризис августа 1998 г. имел для финансово-промышленных групп далеко не однозначные последствия. С одной стороны, он ослабил их финансовое состояние, а с другой — создал более благоприятные условия для оздоровления отечественного производства. Многие олигархи стали инвестировать свои капиталы в принадлежащие им компании, прежде всего нефтяные и металлургические. После августовского кризиса наиболее влиятельной силой стал не финансовый, а промышленно-корпоративный капитал.
Достигнув своего пика в сращивании и в «личной унии», новые взаимоотношения власти и крупной собственности постепенно исчерпыли свои возможности. Во-первых, такой тип взаимоотношений вступил в противоречие с демократическими и рыночными принципами, официально декларируемыми самой политической элитой. Во-вторых, олигархи не выражали интересы всего предпринимательского сообщества, а, соперничая друг с другом, заботились лишь о собственных узкоэгоистических интересах. Даже лоббистские устремления были направлены не на принятие законов, в которых так нуждался российский бизнес, а на получение конкретных привилегий для отдельных фирм. В-третьих, внеинституциональная форма взаимоотношения крупного капитала с властью, предполагающая различную степень «близости» к ней, порождала непрерывные противоречия и конфликты. И наконец, некоторые амбициозные олигархи, используя огромные материальные, политические, информационные ресурсы в любой момент могли «бросить перчатку» самой верховной власти, пойдя с ней на открытый конфликт. Видимо, столь стремительное обогащение породило у некоторых «головокружение от успехов» и они решили, что им все позволено и они могут даже баллотироваться в президенты (В. Брынцалов в 1996 г.).
Указанные противоречия стали выражением слабости данной системы взаимоотношения власти и собственности, вследствие чего она не могла быть прозрачной и стабильной. Отсюда непрерывная череда правительственных кризисов, настоящая министерская чехарда и смена председателей правительства (по выражению Б. Ельцина, «рокировочки» ).
Итак, третий этап характеризовался дальнейшим тесным сближением политической власти и бизнеса. Патронаж уступил место симбиотическим отношениям. Все труднее стало определять «ведущего» и «ведомого». Все чаще они менялись местами. Представители «семерки» обменивались с бюрократической элитой равноценными услугами и полномочиями. Произошла приватизация не только государственной собственности, но и органов государственной власти. Они настолько срослись и слились, что стали практически неотличимы друг от друга. В таком случае, на наш взгляд, можно говорить даже об их тождестве.
Новые тенденции во взаимоотношениях власти и крупного капитала начали обнаруживаться с момента избрания В. Путина президентом России. Олигархически-бюрократическая модель власти, утвердившаяся к концу правления Б. Ельцина, стала ослабевать.
Первым шагом нового президента стало заявление о намерении добиваться «равноудаленности» власти от бизнеса и снятия «иммунитета» с прежних олигархов. На встрече с крупными предпринимателями 28 июля 2000 г. В. Путин дал понять — старые правила, построенные на политическом торге с центром и включавшие в себя «иммунитет», отменяются. Новые же предполагают ведущую роль государства , прозрачность бизнеса, выполнение им всех принятых ранее обязательств. Федеральная власть начала создавать более гибкую и сбалансированную систему отношений с предпринимателями.
В открытой оппозиции к новой политике президента оказались Б. Березовский и В. Гусинский, которые не только были отлучены от власти, но и скоро, не по своей доброй воле, оказались на берегах туманного Альбиона. Большинство же представителей крупного бизнеса, чутко уловив пере- мену ветра, постарались «обменять» свой политический капитал на прочные позиции в экономике и заняли лояльное отношение к власти.
В. ПутиПутин, У1 получивв воVIвремяювыб однозначный мандат доверия от народа, начал выстраивать «вертикаль власти», усилил влияние в регионах, упорядочил федеративные отношения, замыкая их на политический центр. Результатом этого стремления стало заметное повышение авторитета власти. Попытки непримиримых апеллировать к общественному мнению не нашли поддержки в рядах крупного капитала. Власть стала менее зависимой от него, но и одновременно не враждебной к лояльному бизнесу.
Вообще надо заметить, что влияние биз-нес-элит на политику связано не только с ее возможностями и ресурсами, но и с состоянием государства и его политической элиты. Чем слабее государство, тем активнее ведут себя бизнесмены в политической власти. И наоборот, чем сильнее политическая власть, тем более скромную и осторожную роль играют в ней предприниматели, сосредоточиваясь на экономических проблемах. Можно даже сказать, что политические амбиции предпринимателей — это своеобразный барометр состояния государства.
Итак, ключевым принципом нового подхода к бизнесу стало восстановление ведущей роли государства. В этой политике нашлось место диалогу, но не на индивидуальной и непосредственной основе, как это было прежде, а в определенных институциональных рамках, для чего были созданы Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Торгово-промышленная палата (ТПП). Отношения между властью и капиталом переводятся в режим периодических консультаций, в которых в качестве посредников участвуют общественные союзы и ассоциации бизнеса. Однако следует подчеркнуть, что во вновь складывающейся системе отношений доминирующая роль сохраняется за государством: власть готова учитывать согласованное мнение бизнеса, но не собирается полностью ему подчиняться.
К 2003 г. в обществе сформировался прочный консенсус — модель олигархичес-ки-бюрократического капитализма нужно менять. Однако, как это не раз бывало в истории России, оставался открытым вопрос: какими путями и методами достигнуть этого? Несколько встреч В. Путина с олигар-хвами, предпринятых с целью наметить «общественный договор», закончились крахом: олигархически-бюрократическая система, как в свое время коммунистическая, «не захотела реформироваться». Более того, руководство компании «ЮКОС» пошло на обострение отношений с президентом. Была поставлена задача легального завоевания большинства в Думе. Одновременно в общество была вброшена идея парламентской республики с «правительством парламентского большинства». Роль президента в таком случае была бы существенно урезана. Это был сценарий своего рода «бархатного переворота». Для его реализации были выделены солидные деньги и задействованы аналитические ресурсы указанной нефтяной компании.
М. Ходорковского в приватных беседах неоднократно предупреждали о возможных последствиях подобной деятельности, но безрезультатно. И тогда произошел его арест. Но по случаю ареста ожидаемой солидарности олигархов не случилось: одни были напуганы, другие готовы довольствоваться полученными богатствами. Никто не хотел ввязываться в борьбу с властью из-за личных амбиций М. Ходорковского. И лишь некоторые представители властвующей элиты (премьер М. Касьянов, председатель РАО «ЕЭС России» А. Чубайс) открыто критиковали действия Генеральной прокуратуры. Президент отреагировал на ситуацию весьма быстро и жестко: «... все спекуляции и истерику прекратить»4.
В сложившихся условиях крупный капитал стремится получить государственные гарантии своего существования. Президент страны неоднократно заявлял публично, что нового передела собственности не будет. Выступая на заседании правительства, он сказал буквально следующее: «Пересмотра результатов приватизации не будет. Но если были нарушения законов и если Генеральная прокуратура заводит определенные дела, у меня нет законного права возражать»5. Последние слова, сказанные главой государства, несомненно, встревожили олигархическое сообщество.
В интервью итальянской газете «Коррь-ере делла сера» В. Путин заявил: «...я категорический противник пересмотра результатов приватизации, даже если исходить из того, что эти результаты не являются иде-альными»6. Вскоре, выступая на съезде РСПП, он снова успокоил крупный бизнес: «Поворота к прошлому не будет»7. На съезде ТПП, проходившем в конце декабря 2003 г., президент пообещал, что национализации не будет лишь для тех, кто строго соблюдал действующие на тот момент законы. Затем В. Путин, имея юридическое образование, привел не совсем юридическую формулировку: «...приватизационная собственность сохранится у того, кто “вел себя правиль-но”»8. И, наконец, через год, выступая на очередном съезде РСПП, он снова, в который раз, возвращается к этому острому вопросу: «... государство должно гарантировать незыблемость итогов состоявшейся приватизации», «чиновники должны защищать частную собственность не меньше, чем государ-ственную»9.
По сути, дело «ЮКОСа» высветило и обострило назревшую и не решенную до сих пор проблему: дать юридическую оценку итогов приватизации, выработать общие механизмы взаимодействия власти и собственности. Оказалось, что одних заверений, пусть даже на самом высоком уровне, явно не достаточно, тем более что они порой сопровождаются различного рода оговорками вроде тех, которые приведены выше.
В конце декабря 2004 г. Российский фонд федерального имущества продал за долги, насчитанные Генеральной прокуратурой, «Юганскнефтегаз» — главный добывающий актив «ЮКОСа» — никому не известной в стране ООО «Байкалфинансгрупп» за $ 9,3 млрд. Вскоре появилось сообщение о том, что «Юганскнефтегаз» купила государственная компания «Роснефть», которая стала контролировать 17 % всей добываемой в стане нефти.
Хорошо известно, что частные компании, как правило, являются более эффективными владельцами, чем государство, хотя бывают, конечно, случаи, когда на государственных предприятиях производство организованно лучше, чем на частных. Дело в том, что эффективность зависит не только от формы собственности, но и от качества ме- неджмента. Но пока в России трудно назвать какую-либо государственную компанию, в которой госчиновники, осуществляющие реальное управление, вели бы дела более эффективно.
Действия властей, направленные на деприватизацию, еще больше усилили страх и неуверенность крупного капитала в своем будущем. В воздухе витал вопрос: «Кто следующий?». Оставалось только надеяться, что дело «ЮКОСа» — это отдельный эпизод или же опасный прецедент для бизнеса.
Что же касается финала противостояния «ЮКОСа» с государством, то он был вполне предсказуем при нашем сегодняшнем состоянии правосудия. Известный ключевой принцип демократии — непредсказуемость результатов при определенности правил игры — у нас перевернут: хорошо известны результаты при неопределенных правилах игры, которые к тому же могут быть изменены по ходу дела. Вот уж мы, по меткому выражению поэта и философа Д. Мережковского, воистину «европейцы наизнанку».
Напряженность продолжалась также в связи с предстоящим оглашением доклада Счетной палаты «Итоги российской приватизации». Одним из важных моментов этого документа может стать юридическое обоснование того, что итоги «бандитской приватизации» могут быть отменены сегодня в судебном порядке даже по законам ельцинского времени. Более того, на скамью подсудимых впервые могут угадить крупные чиновники правительства, в том числе из Минфина и Минимущества, организовавшие в свое время непрозрачные залоговые аукционы и назначавшие смехотворно низкие цены продаваемым предприятиям. В докладе фигурируют Онексим-банк, банки « Империал», «Менатеп», «Столичный». Объектом «приватизации», судя по этому докладу, стали такие компании, как «ЮКОС», «Сибнефть», «Сиданко», «Норникель», «ТНК»10. Следует отметить, что пока властвующая элита не решила, как поступить с выводами доклада, подготовленного ведомством С. Степашина. Некоторые политики, как, например, президент Союза предпринимателей и арендаторов А. Бунич, считают, что «если историю с незаконной приватизацией “замылить”, олигархи не успокоятся. Их все время будет преследовать мысль о том, чтобы посадить в Кремль гаранта их собственности а-ля Березовский эпохи Ельцина»11.
Конфликт бизнеса и власти, связанный с компанией М. Ходорковского, имел неоднозначные последствия. С одной стороны, он безусловно подорвал позиции крупного бизнеса и заставил его умерить свои политические амбиции. Правящей элите стало легче договариваться с ним по основным вопросам экономической и социальной политики. Но с другой стороны, канфликт напугал крупный бизнес, повысил уровень непредсказуемости и усилил бегство капитала из страны. Американская исследовательская организация Фонд «Наследие», подводя итоги 2004 г., по индексу экономической свободы поставила Россию на 124-е место из 161, где-то между Камеруном и Руандой. Минусами российской экономики считаются слишком высокая инфляция (американские аналитики оценили ее в 16 %, тогда как наше правительство— меньше 12 %); произвол чиновников, диктующих правила игры; растущее вмешательство государства; господствующее положение монополий. Особо западные исследователи подчеркивают слабую защиту прав на частную собственность, а также чрезвычайно сложное, запутанное и постоянно меняющееся законодательство12. По мнению председателя совета директоров Asset Management Б. Сачер, «...главная причина, мешающая развитию бизнеса в России заключается в том, что иностранцы не понимают правил игры. Отсюда нужно в первую очередь главенство закона»13.
Российский бизнес ждет от власти не милости, а удовлетворения своих законных прав. Но и у власти, предъявляющей свои претензии к бизнесу, безусловно, есть, для этого веские основания. Крупному капиталу очень важны, но крайне недостаточны одни публичные заверения президента. Требуется гораздо большее — официально закрепленные, юридически выгаеренные, понятные и прозрачные механизмы взаимоотношений власти и бизнеса. А для этого им для начала нужен общественный договор, в котором обе стороны публично возьмут на себя определенные обязательства. Бизнес, например, обязуется платить налоги в полном объеме, достойную заработную плату, добровольно соглашается на изъятие в пользу госу- дарства сверхприбыли, которую он получает за счет продажи энергоресурсов, участвует в благотворительности. Политическая власть, со своей стороны берет на себя обязательства строго следовать духу и букве закона, утвердить в стране верховенство права в противоположность привычному верховенству властного произвола, защищать частную собственность и т. п. В конечном счете это будет означать одно — признание властью легитимности частной собственности.
Итак, проблема взаимоотношений власти с крупным бизнесом никуда не исчезла. Состояние неопределенности сохраняется. Но еще более сложную проблему составляет взаимодействие капитала и общества. «Реальность крупного бизнеса — его восприятие обществом»14, — считает глава Конфедерации британской промышленности Д. Джонс. Надо признать, что в современной России это восприятие пока сугубо отрицательное, в чем, как ни странно, главная «заслуга» прежде всего большого бизнеса. Именно его представители своим экстравагантным поведением сформировали вокруг себя устойчивый отрицательный имидж. Они постоянно раздражают людей и власть такими выходками, как покупка футбольного клуба «Челси», загородных особняков, роскошных вилл и яхт за десятки миллионов долларов, перевод миллиардов долларов, нажитых в России, за границу и т. д. и т. п. Невольно складывается впечатление, что их абсолютно не тревожит мнение простых граждан.
Сверхконцентрация богатств в руках небольшой кучки людей происходит на фоне беспрецедентного в истории страны обнищания значительной части населения. Достаточно сказать, что в результате приватизации две трети богатств страны стали достоянием 6 % населения, которое взяло то, что им никогда не принадлежало. В то же время 25 % всего населения стабильно находится за чертой бедности, причем 17 млн из этой категории являются работающими15. Официально принятый размер минимальной заработной платы (МРОТ), составлявший 600 руб. в месяц, был поднят в 2005 г. до 720 руб., тогда как личное состояние Р. Абрамовича, заработанное «непосильным трудом», исчисляется $ 14,7 млрд. По данным известного журнала «Форбс», в России в 2004 г. насчитывалось 30 миллиардеров. По этому показателю наша страна вышла на третье место в мире, пропустив вперед лишь США и Германию. В том же журнале обнародован суммарный объем личных капиталов, которыми располагает «золотая сотня», составляющий $ 141 млрд. Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о том, что в России в результате приватизации сложилось крайне несправедливое распределение богатства.
Говоря о несправедливости, ни в коем случае нельзя ставить под сомнение необходимость и целесообразность самого института частной собственности. «Обыкновенно эти два вопроса, — подчеркивает известный русский политолог И.А. Ильин, — смешиваются, что совершенно недопустимо. Институт частной собственности может быть необходим, целесообразен и верен; но наличное распределение имущества может быть неверным и жизненно не-целесообразным»16. Из этого следует, что совсем не обязательно, чтобы люди делились на сверхбогатых и нищих, или на монопольных работодателей и беззащитных наемников. Конечно, даже в цивилизованных странах, как известно, есть богатые и бедные, но неравенство между ними, как правило, сокращается. Гигантский разрыв между бедными и богатыми, сложившийся в нашей стране в настоящее время, конечно же, нельзя признать справедливым. «Одним словом, обосновать частную собственность, - продолжает Ильин, — не значит оправдать любое и всяческое распределение имущества или, тем более, любое и всякое злоупотребление имуществом»17.
Методологический подход, предложенный Ильиным, позволяет отделить идеологию приватизации от недостатков и даже преступлений, допущенных в ходе ее осуществления. Вполне понятно, что тогда и оценки их будут принципиально отличаться друг от друга. Сама идеология приватизации, по нашему убеждению, была объективно необходима и жизненно целесообразна. Ее итогом стало коренное изменение форм собственности, приэтом почти 60 % предприятий стали частными; сформировались новые рыночные институты и созданы экономические предпосылки для демократии; удалось избежать самых острых социальных конфликтов. Одновременно боль- шинство экспертов сходятся в том, что ваучерная, и особенно залоговая модель приватизации оказалась малоэффективной, а то и прямо ошибочной.
По вопросу исправления ошибок и преступлений, допущенных в ходе приватизации, имеются различные подходы.
Первый подход — конфискационный, предполагающий «все отнять и поделить». Его реализация означала бы возвращение к большевистскому лозунгу «грабь награбленное». Разумеется, с подобными взглядами, особенно в период избирательных кампаний, нельзя не считаться, но идти у них на поводу в современных условиях было бы просто безумием. Чем обернулись такие призывы в нашей стране — всем хорошо известно, и, думается, нет никакой нужды дважды наступать на одни и те же грабли.
Второй подход — компенсационный налог. «По сути, — считает директор Центра проблем глобализации М. Делягин, — государство говорит собственникам: вы недоплатили за то, что купили раньше, извольте доплатить»17.
Иначе считает Г. Явлинский: приватизационные сделки, совершенные в 90-е гг., кроме тех, в основе которых лежат убийства и насилие над личностью, следует призна-ють законными19.
Однако самая острая проблема крупного бизнеса в современной России — зыбкость прав на собственность. Как уже отмечалось, даже власть до конца не определилась по этому вопросу. Что же касается общества, то в нем утвердилось стойкое убеждение — крупные собственики социально не ориентированны, ведут себя вызывающе по отношению к гражданам, а главное, их капитал нажит неправедным путем и поэтому не легитимен. Легитимность, как известно, предполагает взаимное согласие. Собственники же не озаботились доверием своего народа. А ведь чем шире поддержка народа, тем сильнее будут укореняться принципы легитимности в общественном сознании и, следовательно, укрепляться позиции самих собственников. Пока же им приходится непременно бояться потерять свои капиталы, о том, как бы побыстрее вывести их и понадежней спрятать за границей.
Характер взаимодействия власти и собственности зависит не только от положения и поведения собственников, но и от политики государства, которую оно выработало и которую реально проводит в жизнь. Надо признать, что пока российская власть, к сожалению, не имеет долговременной, четкой и последовательной экономической стратегии. Появившиеся в обществе ожидания, относительно того, что олигархический замах, начатый против «ЮКОСа», повлечет за собой демонтаж всей системы олигархического капитализма, пока не оправдались. Конечно, в известной мере позиции олигархов были подорваны, их непосредственное влияние на власть ослабло. Но в то же время усилилась связка между аппаратом и капиталом, что находит, отражение в частности, в назначении представителей администрации президента в руководство ведущих государственных компаний. «Этот процесс ведет к появлению бюрократов-олигархов, — подчеркивает член научного совета Московского центра Карнеги Л. Шевцова, — которые не несут ответственности за собственность, но контролируют финансовые потоки. То, как происходит этот процесс, говорит об одном: под прикрытием президентской власти формируется система бюрократически-олигар-хического господства, которая обрекает Россию на стагнирование и оказывается ограничителем модернизационного потенциала самого президента»20.
Не оправдались также большие надежды на антикоррупционные меры в отношении высших чиновников. В общественном сознании стали нарастать настроения пессимизма в отношении всей государственной политики. Такие настроения особенно усилились после принятия в конце 2004 г. пакета законов о замене льгот денежными компенсациями. По данным социологического исследования, проведенного холдингом «РОМИР мониторинг», впервые за последние годы половина населения считает, что страна идет по неверному пути.
«Главная ошибка власти в 2004 г. совершена на концептуальном и даже философском уровне, — заявил генеральный директор «РОМИР мониторинга» А. Милё-хин. — Власть не понимает, что в основе всего, что она делает, должно лежать слово “социальный”, что народ — это не некая абстрактная субстанция, раз в четыре года приходящая к избирательным урнам, а главный приоритет всей ее деятельности. Пока 70 % граждан говорят, что главная проблема страны — это бедность, все вокруг в любой момент может быть унесено ветром»21.
В Послании президента В. Путина Федеральному Собранию России содержится развернутая стратегическая программа взаимодействия власти и бизнеса, предусматривающая, в частности, незыблемость прав частной собственности; создание ясных для всех и стабильных правил, обязательных как для государства, так и для бизнеса; сокращение срока давности по приватизированным сделкам; более жесткая регламентация полномочий налоговых органов; стимулирование инвестиций; упрощенное декларирование накопленных капиталов и ряд других важных мер22. Теперь главная задача будет заключаться в том, чтобы найти эффективные механизмы реализации этой программы и настойчиво претворять их в жизнь.
Некоторое уменьшение политической роли олигархического капитала стало возмещаться усилением значения бюрократического аппарата, который превратился ныне в главный тормоз экономического роста и модернизации страны. Его позиции за последнее десятилетие заметно укрепились. Он вырос численно (по сравнению с Советским Союзом количество чиновников в России выросло в 3, а население сократилось в 2 раза), а качество власти не улучшилось. По мнению К. Холодковского, бюрократия является ныне единственно относительно консолидированным сообществом России23.
Бюрократия, для которой государство, по мысли К. Маркса, есть частная собственность, нередко использует властные полномочия в корыстных целях. По данным Фонда «Общественное мнение», сегодня почти 90 % граждан уверены: чиновники, прежде всего «на самом верху», «что хотят, то и делают». На произвол чиновников жалуются в России ныне буквально все: рядовые граждане, отечественные предприниматели и иностранные инвесторы. Так, например, за защитой от произвола чиновников к главе государства обратился коллектив крупного государственного пароходства «Волготанкер», которое оказалось под угрозой разорения из-за вмешательства местных органов власти (См.: газета «известия» от 12 января 2005 г.).
Но самое поразительное состоит, пожалуй, в том, что на всевластие и произвол чиновников вынуждены публично жаловаться даже весьма авторитетные губернаторы. Так губернатор Орловской области Е. Строев на заседании Госсовета в присутствии президента страны заявил, что «гигантское количество чиновников способно раздавить саму власть. Это амеба, которая скоро окутает нас всех»24. Еще более резко и определенно высказался губернатор Кемеровской области А. Тулеев. По его мнению «нужен механизм защиты главы региона от произвола чинов-ников»25.
Чтобы сломить тормоз общественного прогресса в лице бюрократии и сформировать эффективный госаппарат, потребуется проведение сложной административной реформы. Если коротко определить ее суть, то она состоит в том, чтобы сократить «присутствие государства» в обществе и бизнесе. Ведь по данным экспертов, у нашего государства в настоящее время 5 619 функций. И хотя давно нет командно-административной системы с ее Госпланом и Госснабом и возникла уже рыночная экономика, но прежняя система запретов не только сохранилась, но и укрепилась. Следствием этого являются коррупция, злоупотребление властью и удушение деловой активности.
В ходе административной реформы, начавшейся в нашей стране, должны быть отменены прежде всего многочисленные ненужные разрешительные и надзорные функции. Еще часть функций, связанных с лицензированием, сертификацией, аудитом и оценкой, чиновники обязаны передать бизнесу, а задача информационного характера— по возможности их автоматизировать. Реализация подобных мер, с одной стороны, сократит численность государственного аппарата, повысит его эффективность, а с другой— даст больше свободы бизнесу.
Нейтрализацию бизнес-сообщества как политической силы, проведенную командой президента в последнее время, разумеется, нельзя не приветствовать. Это верный шаг в правильном направлении, способствующий разделению власти и собственности, что уже давно произошло во всех цивилизованных странах. Но, как нередко бывает у нас в стране, мы и тут впали в крайность. В данном случае речь идет о чрезвычайном давле- нии государства на бизнес, которое сразу же, дало отрицательные результаты. По мнению помощника президента А. Илларионова, в 2004 г. правительство своими неумелыми действиями сократило темпы роста валового внутреннего продукта примерно на 3 %. Говорить об удвоении ВВП в ближайшие 10 лет как о решении задачи, поставленной президентом, в таких условиях не приходится26. Из страны усилилось бегство капитала, который, как известно, любит «теплый климат».
Для экономического роста весьма важно, чтобы власть и бизнес определили правильный вектор развития. Однако приходится констатировать, что политическая элита страны так и не определилась до конца по этому принципиальному вопросу. Доходит до того, что одно и то же правительство имеет фактически две различные программы. Так, премьер М. Фрадков выступает за усиление роли государства в делах бизнеса. Он обещает в рамках «частно-государственного партнерства» запустить несколько крупных национальных проектов в области топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства и транспорта, в которых доминирующая роль будет принадлежать государству. Напротив, ведомство Г. Грефа считает, что надо освободить место частному бизнесу, предоставив ему больше свободы, реформировать государственные монополии и поднять средний класс.
Вполне понятно, что перед нами — два принципиально различных подхода, которые предполагают и две различные модели взаимодействия власти и бизнеса. Пока же сформированных до конца четких, стабильных и прозрачных принципов, механизмов и форм взаимоотношений власти и собственности нет. А ведь здесь не надо изобретать что-то принципиально новое, а требуется всего лишь политическая воля, чтобы адаптировать общеизвестные принципы к особенностям российских реалий.
Необходимо, во-первых, четко развести власть и собственность, отделив их до конца друг от друга как на федеральном, так и на региональном уровне. Во-вторых, в принципе «власть-собственность» — доминирующая роль должна принадлежать частной собственности, на базе которой формируется свободная личность, проявляющая себя независимо и во властных отношениях. Без наличия свободного собственника вполне закономерно не может сформироваться и независимое гражданское общество, которое контролировало бы государство. И, наконец, что необходимо сделать власти и бизнесу — это изменить вектор социальной политики в сторону ограничения неравенства, устранить такие формы, которые воспринимаются общественным мнением как явно несправедливые. Капитаны политичес- кой и экономической власти должны наконец понять, что идеи социального равенства и социальной справедливости глубоко укоренились в общественном сознании россиян и стали традицией. Поэтому любые реформы в отрыве от социальных проблем в конечном итоге обречены на неудачу. С учетом этих основных принципов возможно формирование в нашей стране подлинно цивилизованных отношений между государством и собственниками.
Список литературы Взаимодействие власти и собственности в постсоветской России
- Политология: Учеб. М, 2003. С. 85
- Конституция Российской Федерации. М., 1993. С. 6
- Бунич А. Последний оплот олигархии//АИФ. 2005. № 5
- Путин В. Истерику прекратить//Известия. 2003. 29 окт
- Костиков В. Осеннее обострение//АИФ, 2003. № 44
- Путин В. Надо исполнять законы всегда//Известия. 2003, 6 нояб
- Путин В. Поворота к прошлому не будет//Там же. 15 нояб
- Путин В. Национализации не будет//Там же. 28 декаб
- Путин В. Рецепт от либерального застоя//Там же. 2004.18 нояб
- Никитин А. Степашин угрожает олигархам//АИФ. 2004. № 47
- Бунич А. Последний оплот олигархии//Там же. 2005, № 5
- Почему Россия заняла 124-е место из 161?//Там же. № 5
- Что мешает инвесторам в России//Известия. 2004.16 декаб
- В Лондоне российский бизнес говорил о свободе и равенстве.//Известия. 2004. 23 апр
- Приватизация по-русски//АИФ. 2004. № 49
- Ильин ИА. Путь к очевидности. М., 1993. С. 277
- Делягин М. В чью пользу национализация//АИФ. 2004. № 49
- Явлинский Г. Дайте мне лопату//АИФ. СВ, 2003, № 1
- Как дело Ходорковского изменило Россию?//Известия. 2004. 26 декаб
- Половина россиян считает, что страна идет «не туда»//Там же. 2005, 14 янв
- Путин В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации//Российская газета 2005. 26 апр
- Холодковский К. Г. Бюрократическая дума//Полис. 2004. № 1. С. 11
- Губернаторы ждут команды//АИФ. 2004. № 52
- Тулеев А. В реформе власти главное — экономика // Там же. № 52. 16 Илларионов А. Перекресток пройден // Известия. 2004. 30 дек