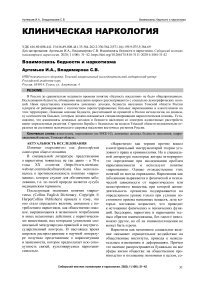Взаимосвязь бедности и наркотизма
Автор: Артемьев Игорь Андреевич, Владимирова Светлана Владимировна
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Клиническая наркология
Статья в выпуске: 1 (106), 2020 года.
Бесплатный доступ
В России до сравнительно недавнего времени понятие «бедность населения» не было общепризнанным. Исследования бедности, обнищания населения широко рассматриваются с социально-демографических позиций. Нами представлена взаимосвязь денежных доходов, бедности населения Томской области России в разрезе её районирования с количеством зарегистрированных больных наркоманиями и алкоголизмом на этих территориях. Показано влияние бедности, рассчитанной по принятой в России методологии, на динамику контингентов больных, которым должна оказываться специализированная наркологическая помощь. Установлено, что взаимосвязь денежных доходов и бедности населения со спектром аддиктивных расстройств имеет определенные различия. Стратегия борьбы с бедностью на модели Томской области положительно отразится на состоянии психического здоровья населения восточных регионов России.
Алкоголизм, наркомании (по мкб-10), денежные доходы, бедность населения, корреляционный анализ, томская область
Короткий адрес: https://sciup.org/142223384
IDR: 142223384 | УДК: 616.89-008.441.13:616.89-008.441.33:364-262.2:330.564.2 | DOI: 10.26617/1810-3111-2020-1(106)-31-42
Текст научной статьи Взаимосвязь бедности и наркотизма
В специальной литературе представление о наркотизме появилось не так давно ‒ в 70-е годы XX столетия . Оно использовалось в противоположность понятию «наркомания», которое служит для обозначения заболевания, т.е. по своей природе является сугубо медицинским термином.
ВОЗ в отчете 1995 г. «Ликвидация разрыва» заявляет: «Самый беспощадный убийца мира и главная причина страдания на Земле – это чрезмерная бедность». Это заявление подчеркивает значимость бедности как фактора, неблагоприятно влияющего на здоровье.
Бедность – это явление, присущее всем без исключения обществам. Оно характеризует негативное состояние социума, его групп и отдельных граждан, отсутствие возможностей и условий развития человеческого потенциала – стратегического ресурса социально-экономического развития общества. Бедность – многомерное явление, заключающее в себе неспособность удовлетворять базовые потребности, бесконтрольность над ресурсами, отсутствие образования и плохое здоровье. По сути, бедность может вызывать отчуждение и напряжение, но особую озабоченность вызывает её прямое и косвенное влияние на развитие и поддержание эмоциональных, поведенческих и психических расстройств [8], потому что мы постепенно возвращаемся к медико-социальной модели помощи, рассматривающей физическое, психическое и социальное благополучие паци- ента [9, 10]. Бедность и социальное неравенство прямо и косвенно влияют на социальное, психическое и физическое благополучие индивида, ограничивают выбор и возможности, а хронические бедствия могут привести к чрезмерному употреблению алкоголя, никотина и других ПАВ [11]. Следует отметить взаимосвязь бедности и неравенства, неравенство доходов вызывает психосоциальный стресс, со временем приводящий к разрушению здоровья и более высокой смертности. Смертность от наркомании, как и от многих других заболеваний, распространена в самых неблагополучных районах (12, 13, 14). Последствия неравенства доходов распространяются и на общество, вызывая стресс, фрустрацию и приводя к разрушению семей. Как следствие, повышаются показатели преступности, самоубийств и насилия [12, 15, 16, 17, 18, 19].
Поскольку бедность – понятие относительное, люди, принадлежащие к низшему социально-экономическому классу, могут находиться в неблагоприятном положении в отношении риска заболеть, стать жертвой несчастного случая, либо, напротив, благоприятных факторов, способствующих здоровому образу жизни [20].
По-видимому, «культура бедности» со временем помогает индивидам справляться со своим окружением. В соответствии с этой точкой зрения плохое состояние здоровья обусловлено поведением самих людей, что, по сути, делает их ответственными за неудачные результаты. Из этого следует, что бедные в некотором роде составляют гомогенную группу [21, 22, 23].
В документах ООН бедность рассматривается с точки зрения недостатка возможностей человеческого развития, ухудшения качества жизни из-за низких доходов и недостаточной имущественной обеспеченности. В то же время причиной низкого уровня доходов часто являются такие качественные характеристики личности, как плохое здоровье вследствие социально обусловленных болезней, в частности алкоголизма и наркоманий [24]. Алкоголизм поражает не только необеспеченные слои населения, но точно так же выявляется среди обеспеченных слоев, имеющих большую возможность скрывать свою болезнь [25].
На новом этапе преодоления уровня бедности необходимо уточнить официальные показатели её измерения. Эти показатели должны отражать особенности российской бедности, а методы их определения должны быть прозрачными и идентичными в процессе изучения.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести популяционно-статистическое исследование с использованием достоверных данных государственной статистики такого сложного социального феномена, как бедность, и определить её взаимосвязь с уровнем учтенной болезненности наркоманиями и алкоголизмом в отдельно взятом субъекте Российской Федерации – Томской области (ТО).
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить различия распространенности алкоголизма и наркоманий в отдельных муниципальных образованиях ТО в зависимости от показателей уровня бедности.
Проанализировать тренды оказания специализированной помощи в районах ТО с различными уровнями социального благополучия.
Конкретизировать влияние бедности и денежных доходов населения ТО на отдельные нозологические единицы аддикций в рассматриваемом регионе.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Единых методологических подходов к определению понятия «бедность» не существует, но на примере Томской области представлена стратегия сокращения бедности [26]. Методика Государственного комитета РФ по статистике основана на абсолютном подходе к определению уровня бедности, основанном на соотношении денежных доходов населения и величины прожиточного минимума. Поскольку «прожиточный минимум» – параметр директивный, устанавливаемый исходя из статистических показателей, характеризующих экономическую ситуацию в регионе, то вычисленный «уровень бедности» ‒ величина гипотетическая, отражающая состояние потребления населения на популяционном уровне. Её нельзя применять к конкретному индивидууму, потому что отношение людей к своему достатку, в равной мере как и к бедности, различно.
Данный подход не позволяет оценить все факторы, влияющие на уровень и структуру бедности [27]. На практике прожиточным минимумом определяется не граница абсолютной бедности, а доля населения с наиболее низкими текущими денежными доходами. Этот социальный норматив ‒ один из базовых, но не единственный при характеристике абсолютной бедности. В характеристику бедности также необходимо включить её остроту и глубину, учитывая демографическую составляющую.
Показатели бедности, как правило, не рассчитываются на муниципальном уровне Росстатом. В Томской области проведено системное исследование Института экономики и менеджмента ТГУ и Департамента социальной защиты ТО, позволившее определить долю малоимущих в городах и районах ТО с учетом местного прожиточного минимума. Распределение муниципальных образований ТО по уровню бедности проводилось на основании рейтинговых значений интегральных показателей, приведенных в материалах Департамента социальной защиты Томской областной администрации.
В этом исследовании использован такой интегральный показатель, как индекс доходов населения муниципального образования, который обобщает влияние следующих факторов: размер средней заработной платы; величина задолженности по заработной плате; объем оборота розничной торговли на душу населения; объем платных услуг на душу населения; доли семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка (признак детской бедности); доли семей, получающих жилищные субсидии (признак общей бедности).
Несмотря на снижение показателей бедности в последнее десятилетие, необходимо оценить неравенство в доступе к доходу по муниципалитетам Томской области, так как факторы неравенства очень инерционны.
При проведении исследования использовались интенсивные показатели зарегистрированных больных психическими расстройствами (F10.2-9, F11-19) по данным диспансерных учреждений на территории Томской области на основании официальных материалов Роском-стата РФ [28]. Кроме того, применялись показатели деятельности наркологической службы Российской Федерации [29].
Статистический анализ данных выполнен с помощью программы «Statistica 8.0». Сравнение статистических показателей, отображающих размеры и количественные соотношения анализируемых явлений, невозможно осуществлять без выбора величины критериев значимости, которые должны удовлетворять принципам применения любого закона: разумности, целесообразности и справедливости. Следует придерживаться точки зрения [30], что требование 95% уровня значимости для проверки статистических гипотез, широко распространенное при проведении медицинских исследований, представляется неоправданно высоким, тем более если учесть существенную неопределенность изучаемых в них явлений. Для решения задач психиатрии, по нашему мнению, вполне достаточен и 80% уровень значимости.
Взаимосвязь между интенсивными показателями зарегистрированных больных психическими расстройствами с уровнем бедности и денежными доходами населения по силе и тесноте корреляционной связи определялась по двустороннему критерию коэффициента Спирмена. Вместе с тем корреляция – это не только причинно-следственная связь. Жизнь в бедности может способствовать формированию психических расстройств, точно так же и бедность может возникать в результате нарушений, связанных с плохим психическим здоровьем. Социальная изоляция и бедность способствуют бремени психических расстройств, в то же время до сих пор имеются незначительные сведения о конкретных взаимодействиях между этими факторами и окружающей средой [31]. Кроме того, нами используются показатели бедности и денежных доходов в целом по отдельным территориально-административным территориям ТО, но эти показатели персонально по больным психическими расстройствами не рассматривались.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведен анализ доходов населения и распространенность наркоманий в ТО. Определен коэффициент корреляции индекса доходов населения в каждом муниципальном образовании ТО с уровнем состоящих на учете больных наркоманией на 10 тыс. населения (r=0,55; р≤0,01), что расценивается как положительная корреляция средняя по силе и с высоким уровнем статистической значимости.
Города Стрежевой, Томск, Северск, отнесенные нами по значению индекса доходов населения к благополучным муниципальным образованиям ТО (I группа), имеют самый высокий уровень зарегистрированной болезненности наркоманиями: 106,9; 61,8 и 55,8 на 10 тыс. населения (табл. 1).
Т а б л и ц а 1. Распределение групп муниципальных образований по значению индекса доходов населения и распространенность наркоманий в Томской области на 10 тыс. населения
|
Индекс доходов населения |
Категория благополучности/ неблагополучности |
Показатель болезненности населения наркоманиями |
|
Благополучные города (группа I) |
||
|
74 |
Томск |
61,8 |
|
69 |
Стрежевой |
106,9 |
|
57 |
Кедровый |
8,0 |
|
- |
Северск |
55,8 |
|
Относительно благополучные районы (группа II) |
||
|
39 |
Александровский |
32,5 |
|
46 |
Томский |
33,2 |
|
48 |
Парабельский |
24,7 |
|
51 |
Колпашевский |
53,3 |
|
37 |
Каргасокский |
4,2 |
|
Относительно неблагополучные районы (группа III) |
||
|
34 |
Бакчарский |
7,9 |
|
31 |
Верхнекетский |
9,2 |
|
30 |
Зырянский |
8,9 |
|
29 |
Кожевниковский |
18,3 |
|
31 |
Кривошеинский |
15,9 |
|
32 |
Молчановский |
28,0 |
|
31 |
Шегарский |
17,0 |
|
Неблагополучные районы (группа IV) |
||
|
24 |
Асиновский |
18,9 |
|
23 |
Первомайский |
7,2 |
|
28 |
Тегульдетский |
3,6 |
|
19 |
Чаинский |
9,5 |
Относительно благополучные районы ТО по тому же показателю – Александровский, Томский, Парабельский, Колпашевский ‒ имеют более низкий уровень зарегистрированной болезненности ‒ в пределах от 24,7 до 53,3. В относительно неблагополучных и благополучных районах рассматриваемая зависимость проявляется не так очевидно, однако выявленные тенденции протекают синхронно.
Таким образом, доля зарегистрированных больных наркоманиями, которым оказывается специализированная помощь, коррелирует с величиной доходов населения таким образом, что чем выше доходы населения, тем больше величина показателя болезненности. В относительно неблагополучных и неблагополучных районах ТО (Тегульдетский – 3,6 и Асиновский – 18,9) показатели болезненности более вариабельные, хотя общая закономерность сохраняется.
Корреляции показателей заболеваемости с индексом доходов населения (r=0,27; p=0,25) не достигает принятого нами 80% уровня значимости. Кроме того, в рассматриваемом временном интервале не во всех районах ТО были выявлены больные с впервые установленным диагнозом наркомании.
Следовательно, достоверными данными о взаимосвязи первичного выявления больных наркоманиями в благополучных и неблагополучных по доходам населения муниципальных образованиях ТО мы не располагаем. Однако следует обратить внимание, что в районах I и II групп (благополучные и относительно благополучные) выявленных больных наркоманиями на 10 тыс. населения (1,2-1,3 – 2,6-3,9) больше, чем в районах III и IV групп (относительно неблагополучные и неблагополучные), где больных либо не было выявлено, либо рассматриваемый показатель был низким (0,7 – 0,6 – 0,4).
Полученные данные могут косвенно подтверждать, что заболеваемость (первичное выявление) наркоманиями выше в муниципальных образованиях ТО с более высоким индексом доходов населения. Можно допустить, что как заболеваемость, так и болезненность наркоманиями выше в муниципальных образованиях ТО с более высоким уровнем доходов населения. Причем даже в том случае, когда значения коэффициента корреляции показателя заболеваемости и индекса доходов не достигают принятого нами 80% уровня достоверности. Определена корреляционная взаимосвязь между интенсивными показателями распространенности наркоманий и оценочными характеристиками (индикаторами) уровня бедности, т.е. между количеством (в процентах) населения городов и районов ТО и доходами ниже прожиточного минимума, отрицательная по направлению и умеренная по силе (r=-0,28; p=0,22) при уровне значимости p≤80%. В то же время значения коэффициента корреляции рассматриваемых параметров возрастают при депривации: связь умеренная по силе и направлению (r=–0,40; p=0,08), а статистическая значимость повышается (p≤90%). Бедность с учетом демографической характеристики, её глубина и острота с распространенностью наркоманий по территории ТО имеют отрицательную по направленности взаимосвязь, но абсолютные величины коэффициентов и их значимость сходны.
Таким образом, отрицательный характер связи бедности населения с количеством больных наркоманией свидетельствует о том, что с увеличением доли населения с доходами, превышающими прожиточный минимум, вероятно, будет возрастать и численность больных наркоманией. В то время как большая бедность приводит к меньшему числу больных наркоманией, при этом мы учитываем величину лага.
Прожиточный минимум значимо не коррелирует с распространенностью наркоманий, но плохие жилищные условия, ограниченный доступ к медицинским услугам и низкие доходы ещё более усугубляют проблему
В таблице 2 представлены сравнительные данные относительно распространенности наркоманий в благополучных и неблагополучных по уровню бедности городах и районах Томской области. В городах Северск, Томск, Стрежевой доля населения с доходами ниже прожиточного уровня колеблется от 10% до 17%. Именно здесь зарегистрирован наиболее высокий в ТО уровень распространенности наркоманий, варьирующий от 55,8% до 106%.
Исключение представляет Кедровый, как город, находящийся на этапе формирования городской популяции (цит. по: 31), с присущими этому этапу развития города низкими показателями болезненности населения, в том числе и наркологической. Другие городские популяции ТО завершили этапы своего формирования. Так, в группе неблагополучных районов в бедности пребывают 36‒65% населения (Чаинский район ‒ 36%, Кожевниковский – 37%, Зырянский – 43%, Асиновский – 48%, Верхнекетский – 65%). Выявлено, что в этих районах количество больных, состоящих на учете, в 5‒6 раз ниже такового, чем в благополучных городах ТО, соответственно 9,5; 18,3; 8,9; 18,9 и 9,2 на 10 тыс. населения. Относительно благополучные и относительно неблагополучные территории ТО сохраняют ту же тенденцию: чем выше в них уровень бедности, тем интенсивнее наркотизация населения. Уровень бедности в первой группе – 18–23%, соответствующие интенсивные показатели составляют 4,2–33,2‰, во второй группе – 27–32% и 8,9–18,9‰ состоящих на учете на 10 тыс. населения.
Т а б л и ц а 2. Распределение муниципальных образований Томской области по уровню бедности (%) и распространенности наркоманий (‰ продецимилле)
|
Наименование муниципального образования Томской области |
Уровень бедности населения |
Распространенность (болезненность) наркоманий на 10 тыс. населения |
|
% |
‰ |
|
|
Благополучные города и районы |
||
|
Северск |
10 |
55,8 |
|
Кедровый |
15 |
8,0 |
|
Томск |
15 |
61,8 |
|
Стрежевой |
17 |
106,9 |
|
Всего |
10‒17 |
8,0‒106,9 |
|
Относительно благополучные районы |
||
|
Первомайский |
18 |
7,2 |
|
Александровский |
19 |
32,5 |
|
Каргасокский |
20 |
4,2 |
|
Кривошеинский |
20 |
15,9 |
|
Томский |
23 |
33,2 |
|
Молчановский |
23 |
28,0 |
|
Всего |
18‒23 |
4,2‒33,2 |
|
Относительно неблагополучные районы |
||
|
Шегарский |
27 |
17,0 |
|
Тегульдетский |
27 |
3,6 |
|
Парабельский |
29 |
24,7 |
|
Бакчарский |
31 |
7,9 |
|
Колпашевский |
32 |
53,3 |
|
Всего |
27‒32 |
7,9‒53,3 |
|
Неблагополучные районы |
||
|
Чаинский |
36 |
9,5 |
|
Кожевниковский |
37 |
18,3 |
|
Зырянский |
43 |
8,9 |
|
Асиновский |
48 |
18,9 |
|
Верхнекетский |
65 |
9,2 |
|
Всего |
36‒65 |
8,9‒18,9 |
Таким образом, интерпретация коэффициента корреляции (r=‒28, р=0,22) иллюстрируется фактическими данными по конкретным территориям: при более высоком материальном благополучии учтенная распространенность наркоманий выше. В неблагополучных по бедности районах количество больных наркоманиями ниже. Следовательно, прогностически следует ожидать, что увеличение контингентов больных наркоманиями будет происходить по всей территории ТО по мере снижения бедности её населения.
Несомненна взаимосвязь доходов населения с распространенностью алкоголизма. Под распространенностью алкоголизма и наркоманий понимают показатели заболеваемости по обращаемости, которые рассчитываются как отношение числа всех заболеваний, выявленных в данном году, к среднегодовой численности населения (болезненность). Поскольку длительность диспансерного наблюдения составляет не менее 3 лет, то данный показатель можно рассматривать как «накопленную заболеваемость по обращаемости» [32]. Естественно, в данном случае остаются значительные контингенты незарегистрированных больных.
Рассматривая распределение больных алкоголизмом и алкогольными психозами в зависимости от источников средств существования [33], отечественные исследователи установили, что для большинства больных трудоспособного возраста (91–96%) основным источником средств существования является работа. Другие источники (пенсии, стипендии, иждивение у других лиц и пр.) суммарно составляют 4–9%.
В возрасте 60 лет основным источником средств существования становится пенсия: в 60–64 года – 37,0% больных, в 65–69 – 64,8%, старше 70 лет – 72,1%. В то же время и в пенсионном возрасте сравнительно велико число больных, продолжающих работать: от 56,3% в 60–64 года до 24,8% в возрасте старше 70 лет. Поскольку занятость больных в трудоспособных возрастах близка к максимально возмож- ной, трудно представить, что имеется довольно большая группа больных, не успевших в течение жизни заработать себе пенсию. По-видимому, существуют иные мотивы продолжать работу и в пенсионном возрасте. Основная масса больных (87‒93%) занята в основном физическим трудом и от 2 до 8% – умственным. Характерно, что доля занятых умственным трудом с возрастом несколько повышается. Очевидно, что чем позже развивается алкоголизм, тем больше шансов получить образование и сравнительно высокую квалификацию.
Считается, что за год за оказанием помощи обращается примерно треть лиц с хроническими заболеваниями. Так, по исследованиям сотрудников НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко, численность хронически больных в среднем в 2,5 раза больше количества первичных обращений в течение года, т.е. для полного выявления хронических заболеваний целесообразно не менее чем трехлетнее наблюдение [34]. В литературе приводится сопоставление времени взятия на диспансерный учет больных алкоголизмом и начала заболевания [35]. Авторами отмечается, что лица с алкогольной зависимостью были поставлены на учет в среднем через 5,4 года после начала заболевания. При этом «запаздывание» – размер лага – составляет 3,4 года в модальном возрасте, т.е. тогда, когда заболевает и берется на учет максимальное число больных. Сходная величина лага (3,9 года) представлена и другими российскими исследователями [36].
Поэтому мы сочли целесообразным рассматривать корреляционные связи анализируемых нами социометрических показателей с уровнем распространенности алкоголизма и наркоманий с учетом 3-летнего размера лага.
Взаимосвязь распространенности алкоголизма по городам и районам Томской области с индексами доходов проживающего в них населения отсутствует (r=0,008, p=0,97), что подтверждает и анализ фактических данных. Так, например, благополучные города ТО по индексу доходов (Томск – 74, Стрежевой – 69, Кедровый – 57) имеют более чем 20-кратное различие интенсивных показателей. Аналогичная картина имеет место и в неблагополучных районах (Чаинском – 19, Первомайском – 23, Асиновском – 24, Тегульдетском – 28), где зафиксировано 2-кратное различие рассматриваемого показателя. Заболеваемость алкоголизмом также достоверно не коррелирует с индексом доходов населения (r=0,23, p=0,34).
Таким образом, показатели заболеваемости и распространенности алкоголизма в муниципальных образованиях Томской области не связаны с индексом доходов населения, который включает, наряду с перечисленными выше величинами, так же и размер средней заработной платы. Следовательно, уровень алкоголизма в отдельных муниципальных образованиях ТО не зависит от материального благополучия, обеспеченного заработной платой, и других параметров рассматриваемого индекса. Т.е. взаимосвязь распространенности наркоманий и алкоголизма с индексом доходов населения в городах и районах ТО имеет статистически значимые различия: если количество больных наркоманиями на 10 тыс. населения коррелирует с доходами населения (включая заработную плату), то при алкоголизме такая связь отсутствует. Отсюда следует, что муниципальные образования ТО с более высокими доходами имеют больше больных наркоманиями (на 10 тыс. населения), нежели те, где доходы населения более низкие, т.е. благополучные районы по доходам являются неблагополучными по уровню распространенности наркоманий, при этом взаимосвязь алкоголизма (на 10 тыс. населения) с доходами не прослеживается.
Вероятно, удовлетворение спроса на алкоголь происходит за счет других источников, в то время как спрос на наркотики зачастую удовлетворяется за счет доходов той части лиц, которые не подвержены этой аддикции, что может свидетельствовать о большем «социальном паразитизме» наркозависимых.
Несколько иначе обстоит ситуация между взаимозависимостью прожиточного минимума и интенсивными показателями алкоголизма в разрезе городов и районов ТО. Так, при уровне значимости 90% (р=0,07) коэффициент корреляции положительный с умеренной силой связи (r=0,41). В то время как взаимосвязь прожиточного минимума с распространенностью наркоманий не обнаружена, при этом значимые корреляции алкоголизма с параметрами бедности отсутствуют.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следовательно, взаимосвязь уровня бедности и прожиточного минимума с частотой алкоголизма и наркоманий различна: если распространенность алкоголизма умеренно и положительно взаимосвязана с величиной прожиточного минимума и не имеет связи с бедностью населения, то распространенность наркоманий отрицательно коррелирует с бедностью при отсутствии связи с прожиточным минимумом. Поскольку прожиточный минимум – директивная константа, отражающая уровень доходов населения в определенный период, то его увеличение синхронизируется с ростом числа больных алкоголизмом в населении, но этот процесс не отражается на величине больных наркоманиями.
Список литературы Взаимосвязь бедности и наркотизма
- Скребков А.И. Антинаркотическая политика в современной России: образовательный аспект. Наркология. 2005; 2: 8-11.
- Семке В.Я., Семке А.В., Аксенов М.М. Здоровье личности и психотерапия. Томск, 2002: 368.
- Москаленко В.Д. Аддиктивные процессы в семье и проблема созависимости. Психическое здоровье. 2006; 10: 30-35.
- Дмитриева Т.Б., Игонин А.Л. Современные возможности медицины в лечении лиц, страдающих наркологическими заболеваниями. Наркология. 2006; 1: 56-59.
- Романова Л.И. Общая и криминологическая характеристика наркоситуации в Дальневосточных регионах РФ. Наркология. 2006; 8: 25-34.
- Сухотин А.К. Гносеологический анализ емкости знания. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1968: 203.
- Бехтель Э.Е. Донозологические формы злоупотребления алкоголем. М.: Медицина, 1986: 272.
- Wahlbeck K., Cresswell-Smith J., Haaramo P., Parkkonen J. Interventions to mitigate the effects of poverty and inequality on mental health. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2017 May; 52(5): 505-514.
- DOI: 10.1007/s00127-017-1370-4
- Шмуклер А.Б. Поддержание психического, физического и социального благополучия - основная цель пациент-ориентированных программ в психиатрии. Региональный опыт модернизации психиатрических служб: Сборник материалов научно-практической конференции / под редакцией Г.П. Костюка. М., 2017: 185-193.
- Kaplan G.A., Roberts R.E., Camacho T.C., Coyne J.C. Psychosocial predictors of depression. Prospective evidence from the human population laboratory studies. Am J Epidemiol. 1987 Feb; 125(2): 206-20.
- DOI: 10.1093/oxfordjournals.aje.a114521
- Bhui K., Byrne P., Goslar D., Sinclair J. Addiction care in crisis: Evidence should drive progressive policy and practice. Br J Psychiatry. 2019 Dec; 215(6): 702-703.
- DOI: 10.1192/bjp.2019.158
- Бохан Н.А., Мандель А.И., Артемьев И.А., Ветлугина Т.П., Солонский А.В., Прокопьева В.Д., Иванова С.А. Невидимова Т.И. Эпидемиология, клинико-патобиологические закономерности и профилактика психических и поведенческих расстройств в результате злоупотребления психоактивными веществами (региональный аспект). Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2006; 3 (42): 25-32.
- Бохан Н.А., Мандель А.И., Кузнецов В.Н. Алкогольная смертность в отдаленных сельских районах Западной Сибири. Наркология. 2011; 10, 9 (117): 43-47.
- Pierce M., Millar T., Robertson J.R., Bird S.M. Ageing opioid users' increased risk of methadone-specific death in the UK. Int J Drug Policy. 2018 May; 55: 121-127.
- DOI: 10.1016/j.drugpo.2018.02.005
- Гычев А.В., Артемьев И.А. Пограничные нервно-психические расстройства и социальная нестабильность. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2009; 4 (55): 67-69.
- Жукова О.А., Карелина Д.Д., Кром И.Л., Ба-рыльник Ю.Б. Медико-социологическая интерпретация психического здоровья. Известия Саратовского университета. Серия Социология. Политология. Выпуск 1. 2011; 11: 30-35.
- Семке В.Я., Галактионов О.К., Мандель А.И., Бохан Н.А., Мещеряков Л.В. Алкоголизм: региональный аспект / под общ. ред. В.Я. Семке. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1992: 217.
- Бохан Н.А., Мандель А.И., Воеводин И.В., Ветлугина Т.П., Иванова С.А. Клинико-патодинамические паттерны формирования опийной наркомании (региональный аспект). Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2003; 3 (29): 25-32.
- Wilkinson R.G. Unhealthy societies: the afflictions of inequality. London, New York: Routledge, 1996: 272.
- Sfetcu R., Pauna C.B., Jordan M. The impact of poverty on mental health and well-being and the necessity for integrated social policies in Romania. ERSA conference papers ersa11p1495, European Regional Science Association, 2011.
- Holman R.T. Poverty: explanations of social deprivation. New York: St. Martin's press, 1978.
- Rutter M., Madge N. Cycles of disadvantage. London: Heinemann, 1976: 413.
- Townsend P. Poverty in the United Kingdom. London: Penguin, 1979.
- Азгальдов Г.Г., Бобков В.Н., Ельмеев В.Я., Перевощиков Ю.С., Беляков В.А. Квалиметрия жизни. М., Ижевск: Всероссийский центр уровня жизни; Издательство института экономики и управления УдГУ, 2006: 820.
- Тихонов Г.В. Новые концепции противоалкогольной пропаганды: "алкогольный процесс развития от нормы к болезни". Актуальные проблемы возрастной наркологии: Материалы региональной научно-практической конференции с международным участием (Челябинск, 13-14 ноября 2008 г.) / под редакцией Е.Н. Кривулина, Н.Е. Буториной. Челябинск, 2008: 144147.
- Козловская О.В. Комплексный подход к оценке уровня бедности в регионе (на примере Томской области). Известия Томского политехнического университета. 2004; 307 (7): 129-133.
- Российский статистический ежегодник 2018: Статистический сборник. М.: Росстат, 2018: 694.
- Здравоохранение в России 2017: Статистический сборник. М.: Росстат, 2017: 170.
- Статистический справочник / под ред. З.И. Кекелидзе, Б.А. Казаковцева. М., 2015: 572.
- Судаков С.А., Амосова А.М. Нужна ли психиатрам математика. Журнал неврологии и психиатрии. 1999; 6: 63-64.
- Gruebner O., Rapp M.A., Adli M., Kluge U., Galea S., Heinz A. Cities and mental health. Deutsches Arzteblatt International. 2017 Feb; 114(8): 121-127.
- DOI: 10.3238/arztebl.2017.0121
- Дощицин Ю.П. О здоровье населения Западной Сибири. Бюллетень СО АМН СССР. 1991; 4: 5-8.
- Медик В.А. Заболеваемость населения: история, современное состояние и методология изучения. М.: Медицина, 2003: 512.
- Киселев А.С., Жариков Н.М., Иванова А.Е., Яцков Л.П. Психическое здоровье населения. Владивосток, 1993: 393.
- Лисицын Ю.П. Социальная гигиена и организация здравоохранения. М.: Медицина, 1973: 465.
- Ураков И.Г., Куликов В.В. Хронический алкоголизм. М.: Медицина, 1977: 169.