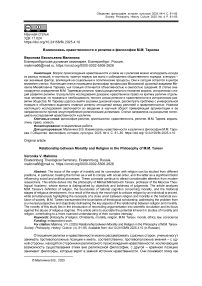Взаимосвязь нравственности и религии в философии М.М. Тареева
Автор: Малинина В.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2025 года.
Бесплатный доступ
Вопрос происхождения нравственности и связи ее с религией можно исследовать исходя из разных позиций, в частности, трактуя первую как волю к соблюдению общественного порядка, а вторую - как значимый фактор, влияющий на социальные и политические процессы. Они и сегодня остаются в центре внимания ученых. Настоящая статья посвящена философии профессора Московской духовной академии Михаила Михайловича Тареева, чья позиция отличается объективностью и смелостью суждений. В статье анализируется определение М.М. Тареевым религии, границ рационального познания морали, исторических стадий развития религии. В результате исследования доказано нравственное право на критику религии отдельным человеком, но показана и необходимость тесного союза религии и нравственности в историческом развитии общества. М. Тарееву удалось выйти за рамки духовной науки, рассмотреть проблему с универсальной позиции и объективно выделить главные аспекты отношений между религией и нравственностью. Новизна настоящего исследования заключается во введении в научный оборот примиряющей аргументации и ее направленности против злоупотребления религиозными догматами. Статья направлена на раскрытие потенциала исследований нравственности и религии.
Философия религии, христианство, нравственность, религия, м.м. тареев, мораль, этика, право, совесть
Короткий адрес: https://sciup.org/149148158
IDR: 149148158 | УДК: 17.024 | DOI: 10.24158/fik.2025.4.10
Текст научной статьи Взаимосвязь нравственности и религии в философии М.М. Тареева
Екатеринбургская духовная семинария, Екатеринбург, Россия, ,
Ekaterinburg Theological Seminary, Ekaterinburg, Russia, ;
категорию, появившуюся в результате мыслительной деятельности человека, а религия, с их точки зрения, опирается на человеческую нравственность, рожденную в опыте общественной жизни, и искусственно придает ей свойства святости. М.М. Тареев обращает внимание еще на одну причину сложности вопроса: религия и нравственность – явления, которые развиваются в истории и принимают разные формы на разных стадиях; соответственно этому меняются отношения между ними.
Нравственное чувство давно исследуется в философии, психологии, социологии. Ученые изучают и религиозное чувство, подвергая его глубокому анализу во всех проявлениях. Рискуя быть обвиненным в утрате религиозного благоговения, М.М. Тареев подходит к вопросу отношения нравственности к религии. Богослов-философ стремится различить «дарованное небом от приобретенного человеком» (Тареев, 1908: 47). Со свойственной ему смелостью, являясь представителем академического православного христианства, он ищет подлинный источник: «Пусть слова, потерявшие смысл, разлетаются как мыльный пузырь, пусть бездушные идолы падают» (Тареев, 1908: 46). В своих трудах профессор Московской духовной академии призывает к научной честности. В вопросах нравственности он, в частности, ссылается на французского философа Жана Мари Гюйо, который считал, что истины морали нельзя поколебать, определяя предел ее научного познания. Он пишет: «Сфера рационального доказательства не равна по объему сфере нравственного действия, <…> существуют случаи, где не хватает определенного рационального правила» (Гюйо, 1899: 186). Действительно, наука должна сама определять свои ограничения, и при этом она приобретает большую степень достоверности.
Отвечая на вопрос о сопоставлении нравственности и религии, нам необходимо дать определение понятию «религия»: «Религия есть отношение человека к всеединому началу жизни, к универсу», – пишет М.М. Тареев (Тареев, 1908: 48). Он утверждает, что отличие человеческой природы от животной заключается в том, что индивид сознает себя частью мирового целого, и это обусловлено чувствами зависимости, надежды и любви. Согласно М.М. Тарееву, они и есть центр религии, а культ и знания – только ее внешнее проявление.
В истории человечества религия предстает перед нами в разных формах. На определенном этапе она становится лично-творческой, свободной или духовной, как называет ее М.М. Та-реев. «Такова преимущественно религия евангельская, религия Христа» (Тареев, 1908: 52). Христианство – это непосредственное личное внутреннее отношение с Богом. М.М. Тареев называет эту форму универсальной, так как она лишена всяких условностей, внутренние отношения строятся независимо от национальности, языка, социального положения и пр. Все свои рассуждения М.М. Тареев строит на основании Священного Писания: «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:28); «<…> и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32); «Иисус сказал ему: итак, сыны свободны <…>» (Мф. 17: 26); «<…> и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф. 23: 9). В этих словах философ находит основание для утверждения, что цель религии – свободная жизнь человеческой личности и ее благо. В рамках христианской философии такое высказывание не вызовет недоумений, но как только мы выходим за эти рамки, возникает противоречие: зависимость или свобода? Формальная логика требует от нас объяснений. Христианство отвечает на этот вопрос следующим образом: у человека нет свободы, если он без Бога. Если человек не живет как часть единого, он теряет свободу. Бог – источник жизни, и если человек не питается от него, он не может жить, а значит, и теряет свободу (Брюшвайлер, 2006).
Еще одно свойство духовной религии отмечает М.М. Тареев: «Будучи с внешней стороны универсальною, духовная религия с внутренней стороны является абсолютною» (Тареев, 1908: 52). Указания Бога имеют абсолютный характер: «Всех люби, всегда прощай, никого не суди, люби до смерти» (Тареев, 1908: 52). Сразу можно заметить, что абсолютный характер не может быть применим в данном случае к каким-либо общественным организациям или отдельным группам людей, и об этом пишет М.М. Тареев. Абсолютность воспринимается внутренней личностью субъективно и делается принципом отдельной частной жизни. «Отсутствие религиозного чувства всегда является искажением человеческой природы <…>», – пишет в своем труде «Наука и религия» русский философ, историк, правовед Борис Николаевич Чичерин, подтверждая мнение религиозных философов о естественности религиозного чувства для человеческой природы. «Оно может принадлежать единственно разумному существу, ибо только разумное существо стремится выйти из своей ограниченности и соединиться с бесконечным» (Чичерин, 1999). М.М. Тареев согласен с его мнением, но добавляет, что разум на разных ступенях человеческого развития обладает разными свойствами и способностями: «Подобно тому, как сын в детстве фактически не отличается от раба, пока не придет в сыновнее самосознание, не овладеет сыновней свободой, <…>» (Тареев, 1908: 54). Это и есть нравственное самосознание, по М.М. Тарееву, – переход в лично-творческую, разумную, абсолютную внутреннюю религию. Чувство сыновней свободы очевидно не совпадает с рассудочным философским миросозерцанием, ибо религия – это живое, реальное отношение с
Богом: «Религия – это философия плюс вера, а вера, живая вера, всегда имеет характер вдохновенности, стихийности» (Тареев, 1908: 55). Внутреннее ощущение родства с Абсолютом через доверие и любовь становится уже чувством не зависимости, а сыновней свободы.
Рассуждая о нравственности, философ определяет ее как отношения между людьми. Как и религия, нравственность, по М. Тарееву, состоит в деятельности творческого духа. Основанные на ней отношения между людьми связаны с общественными системами и государственным строем. Некоторые ученые занимают крайнюю позицию в отношении источника нравственности – например, Рудольф фон Иеринг, немецкий правовед XIX в., чьи труды изучает М.М. Тареев, считает, что именно общество диктует человеку правила поведения, то есть источник – общественный строй. Как правовед, он связывает нравственность с понятием права – «право есть нравственное условие существования лица, защита его есть собственное, нравственное самосохранение» (Иеринг, 1874: 38), и правовое чувство человека он напрямую связывает с нравственным: общество и нравственность для него одно и то же, а стремление установить нравственный порядок – инстинкт самосохранения.
Крайняя позиция правоведа обусловлена областью его научных знаний. С позиции религиозной философии, нравственность занимает противоположную позицию: нравственный закон направлен на сохранность внешнего мира, а не на собственную личность, напротив, нравственный императив может диктовать действия, требующие самопожертвования. Но и Р. Иеринг говорит о морали как об инструменте самосохранения общества, создания условий общественного порядка. М.М. Тареев видит в этих рассуждениях ошибки (Тареев, 1908: 57): «В этой историкообщественной теории многое нуждается в решительном исправлении» (Тареев, 1908: 57), и он не соглашается с положением, что право и мораль – одно и то же. Право – минимальное обеспечение безопасности, предельная граница между злом и нормой. Мораль или нравственность – категория духовного совершенства, у нее сверхзадача: стремиться достичь предельной высоты. Владимир Соловьев пишет: «Право есть низший предел или определенный минимум нравственности» (Соловьев, 2012). Оно относится к внешнему миру, а нравственность – категория внутренняя, заключенная в сердце человека; она имеет абсолютный характер, право же говорит на языке определенного общества и конкретной ситуации.
Тем не менее «чтобы быть моральным субъектом, человеку необходимо не только общение с людьми, но и служение людям» (Тареев, 1908: 60), и так обнаруживается тесная связь нравственного человека с обществом. При этом путь добродетели может лежать через страдания, лишения и гонения – в этом проявляется сила личности и ее духовная красота. Общество исходя из задачи самосохранения диктует определенный минимум нравственных правил, но мораль заключается в выборе человеком нравственных действий. Право, по мнению М.М. Тареева, регулирует моральную энергию всех членов общества, но мораль становится прогрессивной силой для созидания общества и отдельной личности.
Ответ на вопрос о происхождении нравственности нисколько не приблизит нас к пониманию ее как таковой. Суть ее лежит в природе человека, в собственном разуме, а язык религии говорит нам: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13). Здесь мы уже не можем говорить о собственном благе и о разумном решении ради собственного самосохранения. Общественная мораль не может требовать от человека раздать все свои материальные ценности нищим и оставить отца и мать своих, чтобы следовать за Богом: в рамках рациональной земной разумности благотворительность не должна разорять благотворителя. Но при этом нравственность и религия имеют общее основание: последняя «имеет целью самосохранение духа в мировом целом, а нравственность – его свободу в обществе, <…> очевидно, религиозная и нравственная деятельность с субъективной стороны однородна и различается лишь по объекту» (Та-реев, 1908: 69). Родство нравственности и религии не означает их несамостоятельности. Взаимоотношения данных категорий сложны, и М.М. Тареев рассматривает ряд их аспектов.
Во-первых, он отмечает, что личная автономная мораль имеет право на критику религии (Тареев, 1908: 70). Свободный человек вправе не признать ту или иную форму религии на основании собственного нравственного сознания. Нельзя пытливый ум ограничить рамками культурной традиции: «Всякий должен испытать и несомненно увериться – истинна ли та вера, которой он держится, и если окажется не истинною – отыскать, где та единая, истинная, которая истинно ведет к Богу <…>», – пишет святитель Феофан (Феофан Затворник, свт. 2007: 273).
Держаться веры нужно по «несокрушимым основаниям». Закон нашей совести становится мерилом религиозного закона, а «естественный закон» нашей совести дан нам Богом, как утверждает святитель Иоанн Златоуст (Иоанн Златоуст, свт. 1896), развитие религии невозможно представить себе без роста нравственного сознания. Историческое «этизирование» религии – факт, на который указывает М.М. Тареев (Тареев, 1908: 75), признавая, что религия не может развиваться без нравственного развития на начальном историческом этапе становления общества. Далее в эволюции социума «этизированные» религии имеют обратное свойство – влиять на моральные законы общества.
Во-вторых, М.М. Тареев отмечает, что союз религии и нравственности носит статус необходимости, ибо нельзя любить Бога, а брата – ненавидеть. Так выглядит лицемерие, когда истинного религиозного абсолютного духа человек не имеет, но внешне выглядит благочестивым (Тареев, 1908: 76): «Религия, сдвигаясь с пути к абсолютности в тупик индивидуальной ограниченности, неизбежно обращается в обрядоверие <…>» (Тареев, 1908: 77). В качестве исторического примера М.М. Тареев указывает на злодеяния Иоанна Грозного и нравственные преступления инквизиции, он говорит о том, как религиозная безнравственность может проникнуть в религию и процветать «под ее покрывалом» (Тареев, 1908: 80).
В-третьих, особенность отношений религии и нравственности – столкновение консервативной силы религии и творческого разума. Религия не может застыть в неподвижной форме: она должна изменяться вместе с эволюцией этики (Тареев, 1908: 80). В истории мы видим, как появление пророка побуждает народ к развитию нравственного закона.
Отмечая важные аспекты отношений религии и нравственности, М.М. Тареев признает, что на современном этапе развития общества этика приобрела самостоятельность и тесно примкнула к области права, что способствует как положительному консерватизму, так и прогрессу – динамическому развитию общества. Религия сегодня оставляет за собой внутренний мир человека – его субъектность, его предстояние перед Богом, но «надежда произвести этико-общественное благоустройство непосредственно и единственно путем субъективной религии есть очевиднейшая утопия» (Тареев, 1908: 83). Такова особенность культурного развития общества. Кроме религии, нужен этико-общественный прогресс.
В результате исследования необходимо отметить, что профессору Московской духовной академии М.М. Тарееву удается выделить значимые элементы в вопросе отношения религии и нравственности, открывающие возможность диалога между сторонниками крайних позиций:
-
1. Несмотря на важность присутствия определенной степени доверия к святоотеческому наследию и церковной традиции, философ говорит о критическом подходе, о проверке религиозных истин с опорой на внутренний нравственный закон.
-
2. Рассуждая об отношении нравственности к религии, М.М. Тареев утверждает, что без нравственности нет религии. Без морального самосознания религия принимает уродливые формы.
-
3. Религия как культурное явление и социальный институт не может не претерпевать изменений, связанных с развитием нравственных требований в общественном сознании. Нравственность и религия взаимно обусловлены, хотя и различны по содержанию.
Список литературы Взаимосвязь нравственности и религии в философии М.М. Тареева
- Брюшвайлер С., архим. Заповеди Божии и человеческая свобода // Альфа и Омега. 2006. № 45. С. 99-114.
- Гюйо Ж.М. Задачи современной эстетики. Очерк морали. СПб., 1899. 418 с.
- Иеринг Р. фон. Борьба за право. М., 1874. 77 с.
- Иоанн Златоуст, свт. Благодарение Богу за прощение виновных против царя; учение о естестве мира, также о том, что Бог, сотворив человека, дал ему естественный закон // Полное собрание творений cвятителя Иоанна Златоуста: в 12 т. СПб., 1896. Т. 2, ч. 1. С. 137-147.
- Соловьев В. Оправдание добра: нравственная философия. М., 2012. 656 с. EDN: QXCSYV
- Тареев М.М. Основы христианства. Система религиозной мысли: в 4 т. Сергиев Посад, 1908. T. 4: Христианская свобода. 423 с.
- Феофан Затворник, свт. Путь к познанию истинной веры. Созерцание и размышление. Краткие поучения. М., 2007. 568 с.
- Чичерин Б.Н. Наука и религия. М., 1999. 454 с.