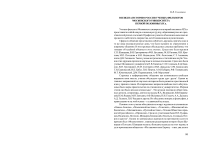Взгляд на историю России ученых-филологов Московского университета первой половины XIX в
Автор: Головкина Мария Владимировна
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Заметки молодых историков
Статья в выпуске: 18, 2008 года.
Бесплатный доступ
Проблема взаимодействия православного предания, сохранившегося в славянском языке, и европейского влияния решались учеными-филологами Московского университета как проблема взаимодействия свободы воли и Промысла: в любом событии была или польза, или отход от веры. Отсюда противопоставление древней Руси и петровской империи не имело смысла, так как история виделась как постепенное развитие, единство которого обеспечивается прочным православным преданием
Московский университет, сеть кружков, с.п. шевырев, в.и. григорович, ф.и. буслаев, м.н. катков, английский клуб, с.м. соловьев, к.д. кавелин, в.а. жуковский, журнал, льманах, "москвитянин"
Короткий адрес: https://sciup.org/14913446
IDR: 14913446
Текст научной статьи Взгляд на историю России ученых-филологов Московского университета первой половины XIX в
Ученые-филологи Московского университета первой половины XIX в. представляли собой новую социальную группу, образовавшуюся из представителей разных сословий. Профессия ученого объединила выходцев из среднего и небогатого дворянства, детей священников и разночинцев.
Сфера их общения представляла собой сеть кружков, причем одни и те же лица посещали разные дома, что было вызвано их стремлением к широкому общению. В этих кружках обсуждались сходные проблемы, что говорит об идейной общности этих ученых. Среди них были кружки С.П. Шевырева, В.И. Григоровича и Ф.И. Буслаева; М.Н. Каткова; Н.И. Крылова; М.П. Погодина и Н.И. Надеждина; П.М. Леонтьева; C.T. Аксакова; князя Д.В. Голицына. Также ученые встречались в Английском клубе. Членов этих кружков скрепляли научные и личные отношения. Среди них были ученые Московского университета Н.В. Калачов, C.M. Соловьев, К.Д. Кавелин, В.И. Григорович, И.M. Cнегирев и И.И. Давыдов, О.М. Бодянский, Т.Н. Грановский, И.К. Бабст, П.Я. Петров, А.М. Кубарев, Р.Ф. Тимковский, М.Т. Каченовский, Д.М. Перевощиков, А.Ф. Мерзляков1.
Стремясь к неформальному общению как возможности свободно выражать свои мысли, ученые обсуждали труды друг друга2. Одним из главных направлений их научных интересов было развитие христианской идеи у древних славян. Из современных вопросов наиболее часто обсуждаемым были меры правительства по отношению к университетам. Мерами этими они были весьма недовольны3 . Эти кружки посещали общественные деятели, литераторы, деятели культуры В.А. Жуковский, И.В. Киреевский, Н.М. Языков, М.Н. Загоскин, А.Ф. Вельтман, Н.И. Гнедич, А.А. Дельвиг, А.Д. Галахов, П.Я. Чаадаев и другие. Их объединил интерес к философии, к православию и на этой основе – к славянской культуре.
Помимо этого ученые объединялись вокруг журналов и альманахов: «Новые Аониды», «Московский вестник», «Телескоп», «Московский наблюдатель», «Москвитянин», «Русский вестник», «Чтения Общества и древностей российских», «Пропилеи». Среди их участников были П.Н. Кудрявцев, Надеждин, Погодин, Шевырев, Бодянский, Леонтьев, Соловьев, Петров и другие4 . Одним из центральных журналов на протяжении долгого времени был «Москвитянин», главными редакторами которого были Ше-вырев и Погодин. Шевырев возлагал большие надежды на этот журнал в деле просвещения общества: «Мы завоюем всю Европу – и все два десять язык будут взяты в плен Москвитянином»5 . Журнал носил религиозный и в то же время вполне светский, современный характер6 . В 1850-е гг. журнал «Русский вестник» и газета «Московские ведомости» под руководством Каткова стали приобретать все большую популярность тем, что на их станицах обсуждались проблемы реформ и общественного развития7 . Все же ученые считали свою работу в периодических изданиях просветительской и старались отстраняться от «журнальной суеты».
Результаты своих исследований о механизмах мышления и познания, а также текстового и устного общения современных им людей И.И. Давыдов и А.Ф. Мерзляков представили соответственно в трудах «Начальные основания логики» (М., 1821) и «Краткая риторика» (4-е изд. – М., 1828). Вопросы основ знания П.В. Победоносцев исследовал в своей работе «Направление ума и сердца к истине и добродетели» (в 2 ч. М., 1830). В своих главных трудах по историей философии и искусства, опубликованных в 1829–1837 гг., Н.И. Надеждин рассматривал проблему происхождения человеческого знания: «О высоком», «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической», «Необходимость, значение и сила эстетического образования», «Всеобщее начертание теории изящных искусств Бахмана», «Вкус» (1837), «Об исторической истине и достовернос-ти»8 . С.П. Шевырев рассматривал вопросы истории литературы как отдельных лиц, так и целых народов в своих трудах «История поэзии» (в 2 т. М.; СПб., 1835–1892), «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (2-е изд. СПб., 1887), «История русской словесности» (в 4 ч. М., 1858–1860). Ф.И. Буслаев в большом сборнике «Исторические очерки русской народной словесности», вышедшем в начале 1860-х гг., и О. Бодянский в докторской диссертации «О времени происхождения славянских письмен» рассматривали вопросы истории языка и литературы9 . В целом научные интересы ученых-филологов Московского университета были сосредоточены на человеке, его мышлении, свободе его воли и его взаимоотношениях с Богом, соотношении веры и разума, взаимодействии власти и народа.
Все они сходились в одном: главная задача XIX в. – спасение православной веры. Надеждин считал: «Оживление веры есть первое необходимое условие нашего совершенствования»10 . Буслаев относил XIX в. к эпохе «Возрождения... древностей христианских»11 . Авторитет православных авторов был для этих ученых велик. «Отцы Церкви – сии великие и богопросвещенные мудрецы – проникали мыслию к небесным тайнам и час-тию проразумевали: но им Бог открывал сии тайны во спасение чад церкви и в пристыжение врагов ее»12 , – писал Надеждин.
Особую свою роль в спасении веры ученые обосновывали судьбой Москвы, которая берегла «останки Угодников Божиих и гробы Государей», распространяла «животворный дух русский на защиту Церкви и Престола» и утверждала «спасительное Самодержавие»16. Ученые видели в научной деятельности, как разумной, особую миссию просветительства. Роль ученого, по их мнению, состояла в том, чтобы «подвести к общим началам то, что живет в устах народа бессознательно и разрозненно» 17. Давыдов указывал: в Московском университете, как «в средоточии народного самопознания, чужеземные приобретения превращаются в живительную кровь и изливаются из него в живом русском слове»18. В противовес народническому «хождению в народ», московские ученые считали, что «университет слушал споры о старом и новом слоге, не думая учить народ искусственному языку славяно-церковному и не допуская входа к себе оборотам иностранным: он воссоздавал язык из родных элементов; он очищал работу миллионов»19 . Для них было важно «проследить те основные нити, на которые фантазия в течение столетий стройно нанизывает все эти противоречия и анахронизмы», что, по их мнению, «значило бы подслушать ту заветную тайну, которая теперь только по частям, время от времени, открывается нам с каждым вновь найденным эпизодом русского эпо-са»20 . Так соблюдалась историческая преемственность, основанная на сохранении предания.
Основываясь на библейском понимании слова как духа человека, ученые-филологи в изучении языка как хранителя предания видели самый действенный способ возвращения образованного общества к своим истокам. Надеждин писал: «Для нас, русских, древний славянский язык есть богатая сокровищница высоких выражений, если только мы будем уметь благоразумно пользоваться ею»21 . А Буслаев считал, что в современную эпоху издание «вековых песен» «внимательному, просвещенному слуху» может «так много внушить... пробудить в уме столько полезных идей, а в сердце столько любви к родной земле, и особенно в такую эпоху, когда коренное преобразование быта народного на наших глазах полагает новые основы для будущих успехов русской цивилизации!»22
В отношении проявления свободы воли в истории славянская мифология отражала мирный, без насилия над человеком образ богов, в отличие от немецких «военизированных» божеств. Буслаев считал, что действие Промысла состояло в том, чтобы сохранить предание, идущее от первого человека. «Развитие жизни общественной и государственной у западных славян рано отделило их от восточных»27 , что привело к тому, что «русская мифология так бедно была развита, что едва ли понимали ясно эти племена значение веры и обрядов в смысле языческом»28 . Бодянский доказывал, что у древних славян понятие центрального божества было близко к монотеистическому взгляду, и именно к христианскому, и имело преемственность с древнейшим индоевропейским божеством: «Хорса и Дажьбога... считаю одним и тем же лицом»29 .
Относительно чистоты языка Буслаев подчеркивал роль Болгарии: «Болгария была источником, откуда шли церковно-славянские оригиналы для наших переписчиков раннего периода русской письменности»30 . Таким образом, классическое языческое влияние не передавалось непосредственно на Русь, а перерабатывалось славянским языком. Предание восточных славян, по мнению Буслаева, способствовало сохранению более простых форм быта и противостоянию гражданскому развитию германских племен. Так проблема призвания варягов решалась не в смысле доказательства их присутствия или отсутствия, а в смысле взаимоотношения народов при подчеркивании свободы славянского сознания. Буслаев через анализ языка выявлял христианские черты славянского предания, отражавшиеся в их образе жизни: «Язык наш свидетельствует, что славяне преимущественно перед всеми индоевропейскими народами в большей чистоте сохранили древнейшие названия семейных отношений и членов семейства». Он приходил к заключению, что «семейные понятия мало подверглись в славянском языке перевороту от внесения в него идей христианских»31 .
Вопрос о свободе воли в истории был тесно связан с вопросом об образовании государства и восприятия власти. Надеждин высказывался так: «Влияние варяжских пришельцев на образование восточных славян в Руси было совершенно внешнее, механическое, а не органическое живое. Они не только не сообщили славянам своей национальности, но сами поглотились ими совершенно, не оставив даже никаких следов своего с ними со-единения»32 . Шевырев в связи с этим писал: «В нашу историю входят не шумные дела князей, дела войны и политики, но мирные подвиги их, на поприще духовного образования. Мы упоминаем только о двигателях пос-леднего»33 . Бодянский подчеркивал важность того, что славянская письменность, основанная на христианском предании, свободно сочеталась с эпическим преданием славян и закреплялась в создании православного государства: «Царьград, столица греческого образования, от которого пошло нынешнее, столица Православия... был колыбелью и наших, истинно народных, письмен... а 862-й год – первогодом воззвания славянского племени к новой во всех отношениях жизни, государственной, вероисповедной, духовной и самостоятельно народной»34 . Буслаев приводил данные языка в пользу точки зрения о различии в содержании славянского и немецкого языков: «Чувства, соединявшие властителя и подвластного, как ближайших родственников, были любовь, милость и ласка; потому-то по-скн. властитель, царь называется… от милостивый, ласковый; этим объясняется у нас постоянный эпитет Владимиру ласковый»35 . Тем самым уче- ный подчеркивал различие славянского и немецкого понимания власти. «Так выразилось в эпическом предании сознание народа о родстве власти политической с властию нравственной... так что в предании о героях народ выразил сознание о родстве человека с богами.»36 При переходе к христианству церковь представлялась примером свободных взаимоотношений власти и народа. Киево-Печерский монастырь, писал Шевырев, «явился рассадником образования духовного, нравственного и словесного, на всю тогдашнюю Русь... Земная власть склонялась перед этим монастырем», «Антоний не имел ни злата, ни сребра, но стяжал слезами и постом»37 .
Как считал Буслаев, отход от предания и искажение внешних форм жизни проявлялись в виде раскола. XVII век был временем сомнения, расшатывавшего единую соборную жизнь православной Руси. Он писал: «В ереси раскольников нельзя не заметить влияния западного, которое в младенче-ствующих умах отразилось дерзким отвержением своих собственных, православных преданий в нем, как и во многих современных нам расколах господствовали некоторые начала мифологические»38 . Он приписывал сатирическое направление одностороннему взгляду раскольников, сравнивая их с современными критиками народности и православия: «В рукописи не однажды проглядывает раскольнический дух в сатирических выходках против православных; так что в дальнейшем развитии русской карикатуры необходимо проследить очень важное участие раскола»39 .
По мнению Буслаева, образование централизованного государства и способствовавшая этому процессу древнерусская литература в лице Четь-их-Миней были единственными путями сохранения предания. Он писал: «Взявши все существенное и полезное из древней Руси, Москва в половине XVI в., как бы вышедши из бессознательного оцепенения... доблестно сознала все главные недостатки русской жизни и решилась проложить новую дорогу для будущего просвещения, но на основах древнерусского православия» 40 . «Домострой», содержащий в себе историческую память и предание, указывал ученый, «не дает... рассыпаться и потеряться в пошлых мелочах действительности: и чем наивнее он в них входит, тем в большем величии выступает на первом месте поставленная им – твердая вера, в которой благочестивые читатели той эпохи находили единственное и самое полное удовлетворение своим умственным интересам» 41. Буслаев пришел к выводу, что древнерусская жизнь в большей степени обладала цельностью: «Одно из существенных преимуществ древней Руси перед новою, преобразованною, происходившее от свежести и искренности благочестивого религиозного настроения, состояло в нераздельной совокупности литературных и художественных интересов; потому что те и другие непосредственно восходили к одному общему им источнику – к религии»42 . С другой стороны, считал он, «Домострой» и подобные ему памятники, будучи привержены к старине и букве, носили в себе залог будущего раскола. В XVII в., по его мнению, начался раскол народности, поскольку про- стонародная и книжная культуры не выражали одного целого и не составляли народность.
Поэтому, как полагал Буслаев, просветительские меры Петра I и его сподвижников были полезны для противостояния расколу и возвращения к преданию. Петровские реформы коренились «на национальных основах, которые испокон веку заключали в себе залоги сближению Руси с европейскими народами – сначала в общих индо-европейских преданиях дохристианского верований и поэзии, потом в общих началах христианского просвещения, далее в исторических сближениях с Европою Новагорода, Пскова, Юго-западной Руси, наконец и самой Москвы с половины XVII в.»43 Давыдов в связи с этим напоминал, что в реформаторском окружении Петра были люди, приверженные вере и церкви: «Сподвижники Петра на поприще просвещения, согревая народ теплотою Веры и преданности Престолу, главных стихий народного характера, славили спасительное действие преобразований Петровых»44 . В то же время, указывая на сильное действие предания в основной массе народа, Буслаев показывал, что «преобразования Петра Великого... были чисто практические и не касались религии, этого главного источника всякой теоретической деятельности, а следовательно и литературы»45 .
Таким образом, проблемы взаимодействия православного предания, сохранившегося в славянском языке, и европейского влияния решались учеными-филологами Московского университета как взаимодействие свободы воли и Промысла: в любом событии была или польза, или отход от веры. Отсюда противопоставление Древней Руси и петровской империи не имело смысла, так как история виделась как постепенное развитие, единство которого обеспечивается прочным православным преданием.
Список литературы Взгляд на историю России ученых-филологов Московского университета первой половины XIX в
- НИОР РГБ. Ф. 36. К. 6. Ед. хр. 1. Л. 57
- РГАЛИ. Ф. 563. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 11-11 об., 17.
- НИОР РГБ. Разд. I. К. 44. Ед. хр. 43. Л. 8.
- Бодянский О.М. О времени происхождения славянских письмен. М., 1855.
- Надеждин Н.И. В чем состоит народная гордость?//Надеждин Н.И. Соч. С. 800.
- Буслаев Ф.И. Новости русской литературы по церковному искусству и археологии//Буслаев Ф.И. Соч. Т. 3. Л., 1930. С. 144.
- Надеждин Н.И. Рассуждение об опасности излишнего доверия разуму при изъяснении Священного Писания//Надеждин Н.И. Соч. С. 858.
- Буслаев Ф.И. Русский богатырский эпос//Буслаев Ф.И. Догадки и мечтания о первобытном человечестве М., 2006. С. 159.
- Давыдов И.И. О содействии Московского университета успехам отечественной словесности. М., 1836. С. 9-10.
- Надеждин Н.И. О высоком//Надеждин Н.И. Соч. С. 91.
- Надеждин Н.И. Летописи отечественной словесности//Надеждин Н.И. Соч. С. 753.
- Надеждин Н.И. В чем состоит народная гордость?//Надеждин Н.И. Соч. С. 798-799.
- Шевырев С.П. История поэзии. Т. 1. М., 1835. С. 35.
- Буслаев Ф.И. Древнейшие эпические предания славянских племен//Буслаев Ф.И. Догадки и мечтания о первобытном человечестве. С. 209.
- Буслаев Ф.И. История русской литературы. Вып. 1. М., 1904. С. 34.
- Буслаев Ф.И. Областные видоизменения русской народности//Буслаев Ф.И. Догадки и мечтания о первобытном человечестве. С. 171.
- Бодянский М.О. Об одном прологе библиотеки Московской духовной типографии и тождестве славянских божеств, Хорса и Даждьбога. М., 1846. С. 10.
- Шевырев С.П. История русской словесности. Ч. 2. М., 1860. С. 10.
- Буслаев Ф.И. О влиянии христианства на славянский язык. М., 1848. С. 155.
- Буслаев Ф.И. История русской литературы. Вып. 3. М., 1907. С. 31.
- Буслаев Ф.И. Повесть о Горе Злосчастии//Буслаев Ф.И. Догадки и мечтания о первобытном человечестве. С. 247.