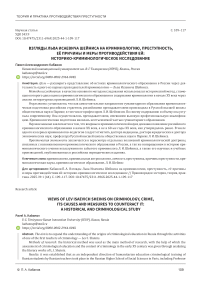Взгляды Льва Исаевича Шейниса на криминологию, преступность, её причины и меры противодействия ей: историко-криминологическое исследование
Автор: Кабанов П.А.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Теория и практика противодействия преступности
Статья в выпуске: 1 (44), 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель - расширить представление об истоках криминологического образования в России через деятельность одного из первых преподавателей криминологии - Льва Исаевича Шейниса.
Криминология, криминальная антропология, личность преступника, причины преступности, криминологическая наука, криминологическое образование, л. и. шейнис
Короткий адрес: https://sciup.org/14133270
IDR: 14133270 | УДК: 343.9 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-44-1-109-117
Текст научной статьи Взгляды Льва Исаевича Шейниса на криминологию, преступность, её причины и меры противодействия ей: историко-криминологическое исследование
©
Криминология — наука о состоянии, тенденциях и причинах изменения преступности и мер борьбы с ней сама подвержена изменениям. Как правило, в современных российских учебниках по курсу криминологии выделяется самостоятельный раздел под наименованием «история криминологии», в котором указываются этапы формирования криминологии, наиболее известные научные произведения о преступности, личности преступника, причины преступного поведения и меры сдерживания преступности, а также их авторы. Выделенный в качестве самостоятельного раннего этапа формирования и развития российской криминологии дореволюционный период обладает небольшим количеством литературных источников, обходясь незначительным количеством научных трудов и ещё меньшим количеством упоминания криминологов того времени. При этом историография криминологии обходится скудным количеством научных произведений, которые имеются в распоряжении авторов учебников и учебных пособий. Современные авторы среди дореволюционных криминологов наиболее часто выделяют академика Императорской академии наук К. Ф. Германа, профессоров М. В. Духовского, И. Я. Фойницкого, Н. А. Неклюдова, Н. Д. Сергиевского, М. П. Чубинского, С. К. Гогеля, Д. А. Дри-ля и некоторых других. Значительно реже упоминаются имена академика В. М. Бехтерева, профессоров В. Ф. Чижа, П. И. Ковалевского, В. В. Есипова, И. П. Закриевского, А. Н. Щеглова, а также П. Н. Тарновской, Е. Н. Тарновско-го и других. И есть значительное количество специалистов, по нашим данным, более ста человек, о которых никогда в современных отечественных научных и учебных произведениях не упоминалось, как и об их трудах по криминологии, хотя их научная ценность достаточно высока. Среди таких неизвестных современному российскому читателю криминологов оказался доктор медицины, доктор экономических и доктор юридических наук Лев Исаевич Шейнис, председатель правления Тургеневской библиотеки в Париже в период с 1900 по 1924 год [45, с. 234–240] — многогранная одаренная личность со значительным количеством опубликованных научных, научно-популярных и учебных работ по множеству направлений социальной жизни. При этом эти работы были опубликованы на различных европейских языках, которыми автор владел в совершенстве.
Сведения о Л. И. Шейнисе из иностранных источников . Для общего представления о личности ученого можно найти произведения других авторов различного жанра. Однако полноту его положительных качеств и точное время жизни, как правило, раскрывают не столько воспоминания о нем, сколько «скорбные листки» — некрологи. Проведенное нами исследование содержания некрологов, посвященных памяти Л. И. Шейниса, опубликованных за рубежом на различных языках, позволил представить краткую биографическую справку о нем. Лев Исаевич Шейнис родился 8 февраля 1871 года в местечке Липканы, Хотинского уезда, Бессарабской области, Российской Империи — ныне город Липканы Бри-чанского района Республики Молдова. Жил, учился и работал во Франции. Получил высшее медицинское образование во французском Университете Монпелье, в 1897 году защитил диссертацию на степень доктора медицины, а в начале ХХ века на степень доктора права и экономики. Обладал знаниями семи действовавших в тот период языков, на которых свободно общался и писал свои произведения. Трагически погиб 14 ноября 1924 года в Париже в результате дорожно-транспортного происшествия при переходе улицы — был сбит таксистом, потерявшим управление автомобилем. Большинством специалистов он признавался одновременно российским и французским исследователем вопросов медицины, экономики, права, философии, социологии и других наук [3, c. 854; 4, c. 94; 7, c. 3; 13, c. 575; 9, c. 1; 10, c. 2; 11, c. 2; 15, c. 752; 17], в отдельных случаях указывалось, что он увлекался исследованиями в области криминологии [5, с. 1935].
Наш научный интерес к личности Льва Исаевича Шейниса обусловлен рядом объективных обстоятельств. Во-первых, он был уроженцем Российской Империи, её гражданином и имел прямое отношение к криминологическим исследованиям. Во-вторых, он оказался первым среди профессоров Русской высшей школы общественных наук в Париже, читавшим для студентов этого образовательного учреждения на русском языке курсы по социальной криминологии, в том числе её раздела «криминальная антропология», начиная с 1900 года [31, с. 400–406]. В-третьих, после смерти Л. И. Шейниса в 1924 году его женой Л. В. Чеховой-Шейнис в Париже был издан сборник трудов покойного на русском языке под наименованием «Проблемы криминологии и социальной психологии». Это была первая книга на русском языке, в наименовании которой использовался термин «криминология», а также имелись наиболее значимые учебные и научные произведения Л. И. Шейниса по вопросам криминологии [38]. В-четвертых, значительную долю своих научных произведений Л. И. Шейнис публиковал в научных и научно-популярных изданиях Российской Империи, включая и некоторые работы по криминологии и её отдельным разделам. Все это свидетельствует о том, что Лев Исаевич Шейнис являлся одним из первых в России преподавателей криминологии, который не только преподавал этот курс, но и имел научные публикации по преподаваемой учебной дисциплине. Более того, до настоящего времени историко-криминологических исследований, позволяющих оценить взгляды Л. И. Шейниса на преступность, её причины, содержание криминологии, не проводилось. Все это обуславливает научную значимость проведенного исследования и её ценность для истории российской криминологии как науки и учебной дисциплины.
Объект исследования — общественные отношения, связанные с установлением и развитием криминологической подготовки российских студентов высших учебных заведений, через взгляды на криминологию одного из ведущих криминологов-педагогов начала ХХ века Л. И. Шейниса.
Предмет исследования — структура и содержание криминологического образования и криминологической науки в учебных и научных произведениях Л. И. Шейниса.
Цель исследования — определить взгляды Льва Исаевича Шейниса на преступность, её причины, меры предупреждения преступности и социальную криминологию как науку и учебную дисциплину в конце XIX — начале XX века.
Задачи исследования :
-
— найти, наиболее значимые научные произведения Л. И. Шейниса по вопросам криминологии, опубликованные в России на русском языке, и при необходимости ввести их повторно в научный оборот;
-
— описать и оценить содержание произведений Л. И. Шейниса по криминологии и выявить в них наиболее значимые идеи, направленные на формирование криминологической компетентности обучающихся;
-
— определить степень значимости профессиональной деятельности Л. И. Шейниса в формирование криминологии как науки и учебной дисциплины.
Эмпирическая база исследования включает в себя только научные и учебные произведения Л. И. Шейниса в рамках курса «социальная криминология», опубликованные на русском языке в российских периодических изданиях, а также отдельные произведения на иностранных языках характеризующие личность и его профессиональные качества педагога-криминолога и криминолога-исследователя.
Хронологические рамки исследования охватывают период с конца XIX века, когда вышла обнаруженная нами первая публикация на русском языке по криминологии, и до конца 1927 года, когда был опубликован сборник его произведений на русском языке в Париже.
Процесс и результаты проведенного исследования
Обращаясь к оценке взглядов профессора Л. И. Шейниса на преступность, её причины, меры противодействия преступности и на криминологию, необходимо отметить, что эта учебная дисциплина стала преподаваться ещё в 90-х годах XIX века в отдельных образовательных учреждениях высшего образования Европы и Северной Америки. Она преподавалась под видом различных курсов, таких как «криминальная антропология», «уголовная социология», «социальная криминология», «психология преступника», «криминальная этиология» и производных от них учебных дисциплин. Эти дисциплины преподавались специалистами различных отраслей знания и поэтому неизбежно носили «печать» авторских и отраслевых предпочтений. Дискуссионные подходы к содержанию курсов криминологии можно объяснить лишь не устоявшимся её статусом среди наук, разнообразием мнений по её содержанию, принадлежностью к различным научным школам. Если представители итальянской научной школы во главе с Чезаре Ломброзо относились к многообразию наименования криминологической науки терпимо, то их противники старались реже упоминать термин «криминальная антропология», заменяя его термином «криминология» и производными от него словосочетаниями. В период формирования криминологии как науки в конце XIX века, было отмечено открытое противостояние между представителями итальянской и французской научных школ. Эти противоречия переносились на наименование криминологических учебных дисциплин и их содержание. Поэтому, в силу известных противоречий, во Франции преподавалась криминология, включавшая в себя различные аспекты воззрения на преступность и меры противодействия ей как социальной или социологической науки [2, с. 138]. Данный подход отразился и на учебном плане Русской высшей школы общественных наук в Париже, в которой преподавалась учебная дисциплина под наименованием «социальная криминология» [27, с. 115–123]. Необходимо отметить, что в соответствии с учебной программой вуза в курс «социальной криминологии» входили три дисциплины: уголовная антропология, изучаемая студентами на первом курсе; психология преступника и уголовная социология, изучаемые на втором курсе [23, с. 60].
Лев Исаевич Шейнис читал в Русской высшей школе общественных наук в Париже в рамках социальной криминологии курс криминальной антропологии. Наиболее популярными среди студентов считались четыре его авторские лекции «Биологические и социальные факторы преступности» и несколько лекций по общим вопросам системы криминальной антропологии (социальной криминологии) в соответствии с воззрениями Чезаре Ломброзо и Габриэля де Тарда [23, с. 35–36], а так же по специальному курсу «О самоубийстве, как социальном явлении» [35, с. 85–111].
Следует отметить, что в силу разнообразия подходов к дисциплине «социальная криминология» в её рамках разрабатывались и преподавались другие курсы. Одновременно с Л. И. Шейнисом в Русской высшей школе общественных наук в Париже читались следующие самостоятельные криминологические курсы:
-
— «Общая характеристика новых учений в области преступления и наказания» приват-доцентом Демидовского юридического лицея, магистром уголовного права Михаилом Павловичем Чубинским;
-
— «Вопросы вменения и уголовной ответственности в позитивном освещении» практикующим юристом Александром Соломоновичем Гольденвейзером;
-
— «Биологическая теория преступления» сторонником антропологического направления в криминологии Максом Нордау (Max Nordau);
-
— «Теория прирожденных преступников» доктором медицины, профессором Антропологической школы в Париже Леонсом Пьером Мануврие (Manouvrier Léonce-Pierre);
-
— «Психология преступника» доктором медицины, профессором Брюссельского вольного университета и Парижского института психофизиологии Николаем Николаевичем Баженовым;
-
— «Уголовная социология» московским присяжным поверенным, кандидатом прав Императорского Московского университета Владимиром Владимировичем Пржевальским [23, с. 35–37].
Несколько позже в учебную дисциплину «социальная криминология» был введен спецкурс «Социальные факторы преступности» (Les facteurs sociaux de la criminalité), читаемый малоизвестным тогда приват-доцентом Императорского Московского университета, магистром уголовного права Михаилом Николаевичем Гернетом [6, c. 853–854; 8, c. 797].
В современной криминологии из перечисленных выше шестерых наших соотечественников-криминологов, при рассмотрении вопросов истории дореволюционной криминологии, лишь фамилия М. П. Чубинского упоминается, да и то не часто. Его упоминание авторами современных российских учебников по криминологии происходит в основном благодаря переизданному в XXI веке произведению — книги «Чубинский М. П. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные проблемы уголовной политики как составного элемента науки уголовного права» [33]. Фамилия Михаила Николаевича Гернета в криминологических исследованиях и учебных произведениях упоминается в качестве виднейшего советского юриста-криминолога, имевшего исследовательский опыт, полученный в дореволюционный период со ссылкой на его магистерскую диссертацию, а отдельными специалистами проводятся исследования его криминологического наследия [26, c. 51–83; 28, c. 519–529].
В рассматриваемый нами период отмечается мно-голикость криминологической науки, обусловленная разнообразием подходов к её предметной области, состоянием результатов полученных исследователями различных научных специальностей. По мнению выдающегося испанского криминолога конца XIX — первой половины ХХ века Констанцио Бернальдо де Кироса (Constancio Bernaldo de Quiros), сделавшему добротный обзор учебных программ по криминологии в европейских образовательных организациях высшего образования конца XIX века, преподавание курсов по криминологии в них, включая криминальную антропологию, являлось редким исключением. Однако в тех учебных заведениях, где эти курсы преподавались, они пользовались повышенным спросом среди студентов [1, с. 60–110]. Действительно, в конце XIX — начале ХХ века, по мнению профессора П. И. Люблинского, социальное учение о преступности именовалось по разному: одни называли его «уголовной социологией», другие «криминологией», третьи «уголовной этиологией» [29, с. 363–387], поэтому и учебные курсы в образовательных организациях имели разные названия.
Возвращаясь к предметным границам нашего исследования, необходимо отметить, что некоторые из выпускников Русской высшей школы общественных наук в Париже, например, адвокат Парижского аппеляцион-ного суда Т. Чернов, в своих воспоминаниях указывали, что многообразие дисциплин в социальной криминологии и их разнонаправленность позволяли им критически мыслить. Они были признательны Л. И. Шейнису за профессиональное мастерство и доступность изложения материала по курсам, входившим в учебную дисциплину «социальная криминология» [21, с. 86].
Проведенный нами обзор основных научных произведений позволяет нам сделать вывод о том, что Лев Исаевич Шейнис был многогранной и одаренной личностью, обладал познаниями в различных сторонах социальной жизни: медицине, экономике, политике, праве, искусстве, социологии и других. Подтверждением тому служат опубликованные его научные произведения по различным направлениям на различных языках и различных континентах. Не выходя за предметные рамки нашего исследования, следует отметить, что по вопросам криминологии им опубликовано достаточное количество работ на различных языках, в том числе и на русском языке.
Первая из известных нам статей Л. И. Шейниса на русском языке по криминологии под названием «Теория Тарда и Ломброзо о преступлениях анархистов» была опубликована в 1899 году в журнале «Вестник права» в разделе «Литературное обозрение» [40, с. 312–323]. В этой работе он делает краткий обзор двух социально значимых научных статей по преступности анархистов. Первая из них принадлежит авторитетному итальянскому антропологу Чезаре Ломброзо «Le crime de Luccheni» (1898) [14, с. 240–248], а вторая работа известного французского криминолога Габриэля де Тарда (так Г. де Тарда называет Л. И. Шейнис в тексте статьи. — П.К.) «Les crimes de haine» (1894) [20, с. 241–254]. При этом изложение текста работ дает в хронологическом порядке — сначала раскрывает содержание статьи Г. де Тарда, а потом уже обращается к содержанию произведения Ч. Ломброзо. Внимательно анализируя произведение Г. де Тарда, автор статьи критично и иронично отмечает, что преступления анархистов вызваны «возрастающим притеснением рабочих тиранией буржуазии и капитала». Этим он и объясняет преступность анархистов, но одновременно указывает на то, что Г. де Тард, противоречит самому себе, по крайней мере, своим ранее изданным основным работам по криминологии [18, c. 521–533; 19, c. 379–396; 32]. Г. де Тард призывает не к справедливому распределению доходов от производства в обществе между работником и работодателем, а к ужесточению репрессий в отношении анархистов — применению массовых расстрелов и взятием заложников. Такой подход одного из лидеров французской, европейской и мировой криминологии Г. де Тарда к преступности анархистов воспринимается автором негативно, хотя и сам Л. И. Шейнис принадлежит к социологическому направлению в криминологии, но предлагаемые им меры считает неприемлемыми и малоэффективными.
Оценка произведения Ч. Ломброзо началась автором с критики его предшествующих работ по криминальной антропологии, что было традиционно для большинства французских и европейских криминологов социологического направления. В процессе анализа произведения, соглашаясь с Ч. Ломброзо, он вслед за автором говорит, что действительно причины преступного поведения Луккени (убийство австрийской императрицы Елизаветы 10 сентября 1898 года в Женеве) вызваны социальными факторами: общими и экономическими условиями, собственного злосчастья и нищеты этого субъекта, а также бедствий, пережитых его родней. В связи с этим Л. И. Шейнис делает однозначный вывод о том, что «антропологическая теория преступности» Ч. Лом-брозо претерпевает эволюцию — она трансформируется от теории «прирожденного преступника» к социальной теории причин преступности. Несколько позже, уже в другой работе, при оценке вклада Ч. Ломброзо в развитие мировой криминологии, Лев Исаевич напишет, что «криминальная антропология Ломброзо — колыбель современной криминологии» [36, с. 798–805]. По-сути, он подчеркивает, что «криминальная антропология» или «антропологическая теория преступности» Ч. Лом-брозо — это начальная стадия формирования учения о преступности, её причинах и мерах противодействия ей, которая трансформировалась в криминологическую науку. Близкой по содержанию позиции придерживались и отдельные российские специалисты, полагая, что Ч. Ломброзо признавал не только биологические факторы преступности, но и отводил известное место социальным факторам. При этом считая, что разрабатываемая им криминология является отраслью науки уголовного права, изучающей преступность и те естественные законы, которые обуславливают преступную деятельность [22, с. 13]. Такой подход социальных криминологов не противоречит эволюции взглядов Ч. Лом-брозо, по крайней мере, отраженным в его научных произведениях на рубеже XIX–ХХ веков. Например, книге «Преступление, причины и средства правовой защиты» Ч. Ломброзо в начале книги в первой главе «Etiologie du Crime» рассматривает именно основные причины преступности [12, с. 7–45].
Проведенный нами поиск произведений Л. И. Шейниса в российских периодических изданиях начала ХХ века, показал, что в жанре литературной критики им были подготовлены и другие произведения, в том числе по криминологической тематике. Так, в разделе «криминология» шестого номера журнала «Вестник знания» за 1908 год была опубликована критическая статья Л. И. Шейниса под названием «Ещё одна биологическая теория преступности» [34, с. 800–807]. В этой работе он подверг критике произведение своего коллеги по Русской высшей школы общественных наук в Париже Макса Нордау «Новая биологическая теория преступления», которое было опубликовано в одном из журналов Германии на немецком языке в 1902 году [16, с. 150–164]. В 1903 году оно было переведено с немецкого языка на русский и опубликовано отдельной брошюрой [30]. Данную теорию он охарактеризовал, как неудачную попытку автора перенести биологические термины для описания общественной жизни, которая не способствует пониманию причин и механизмов социальных явлений, включая преступность. Близкая по содержанию оценка этой работы Макса Нордау, судя по имеющимся публикациям в периодических изданиях того времени, давалась и другими специалистами [44, с. 9–10].
Однако наибольшую популярность в Российской Империи как криминолога Л. И. Шейнису принесла публикация в 1903 году в двух номерах журнала «Мир Божий» работы «Биологические и социальные факторы преступности» [41, c. 168–187; 42, c. 243–254], которая составляла основную часть его одноименного курса, читаемого в Русской высшей школе общественных наук в Париже. В этой работе автор вначале критикует антропологическую теорию преступности и теорию «врожденного преступника», обращая внимание на антропологические изъяны этой теории, при этом отмечая, что труды Ломброзо являлись первой крупной попыткой подвести явление преступности под закон причинности. При анализе признаков «врожденного преступника», он утверждает, что татуировки у осужденных, находящихся в местах лишения свободы, — это не признак их преступности, а мода на них, которая свойственна и респектабельным лицам, а среди заключенных, солдат и матросов татуировки — это чисто профессиональная черта, в которой нет ничего преступного. Отмечая использование преступниками жаргона, он указывает, что наличие жаргона — это не признак преступности как биологической единицы, а признак определенной социальной группы, в которой он вращается.
В процессе оценки причин преступного поведения автор выделяет психологические факторы преступности — психологический автоматизм как психическое состояние. К ним он относит:
— скитание;
— клептоманию;
— пироманию;
— склонность к самоубийству и т. д.
В число социальных факторов преступности автор относит разграничение в обществе на «своих» и «чужих»: все, что позволено к «чужому», преступно по отношению к «своим». При этом Л. И. Шейнис отмечает, что с осложнением общественной и международной жизни это деление на «своих» и «чужих» идет в двух направлениях — этническом и социальном. С одной стороны, развивается солидарность родовая, племенная, национальная и т. д., с другой стороны выступает солидарность на почве классовых интересов. Процесс смягчения нравов не подлежит сомнению, но сводится к тому, что понятие «свой» все более расширяется. Лев Исаевич в это работе ставит под сомнение понятие преступности в условиях деления на «своих» и «чужих». Он приводит в качестве примера убийство, запрещенное под страхом наказания над членом социальной группы к которой принадлежал убийца, но и здесь он находит исключения как в прошлом, так и в настоящем, в том числе санкционированное законом убийство в отдельных случаях:
— в виде войны;
— личной обороны;
— смертной казни;
— при исполнении стражей своих обязанностей.
Обращаясь к модной тогда теме «преступности анархистов» Л. И. Шейнис пишет, в основе преступлений анархистов лежат социальные факторы преступности, лишь частично усиливаемые биологическими — пьянством родителей. Рассматривая вопросы причинного объяснения преступности, автор обратился к анализу «теории подражания». С позиции этой теории он указывает, что в качестве психологических факторов в городе выступают — подражание — мода, а в сельской местности — подражание — обычай. Исследуя заразительность подражания как причины преступности, он отмечает, что в 1875 году парижанка Гра брызнула своему любовнику серной кислотой в лицо, и с тех пор этот способ мести женщин стал практиковаться на каждом шагу. В связи с этим он приводит высказывание своего коллеги, который по этому поводу сказал, что эпидемия заразных болезней распространяется с быстротою пара и ветра, эпидемия преступности — с быстротой телеграфа.
В качестве экономических причин преступности Л. И. Шейнис выделял экономические кризисы, поскольку они давали повышение показателей преступности, подтверждая это ссылкой на статистические данные. При этом прямо заявляя, что состояние преступности зависит от экономических условий жизни. В качестве социально-психологического фактора преступности Л. И. Шейнис выделил жадность. Вот как он иллюстрирует это фактор в жизни Франции. Если происходит увеличение преступников среди купечества, то это его ответ на знаменитый клич «наживайтесь!». Этот клич стал девизом господствующих классов Франции. Согласно статистическим данным жадность в период с 1826 до 1830 года была в 13 случаев из ста мотивом убийства, насилия и поджога, теперь является таким мотивом в 22 случаях из 100, хотя преступления против личности постоянно уменьшались, в то время как число преступлений против собственности такими же темпами увеличивалось. Завершая обзор основных факторов преступности, автор попутно высказал идею о том, что «общества имеют тех преступников, которых они заслуживают». Обратившись к модной тогда в Европе теме реформирования пенитенциарной системы государства как средство снижения преступности, признавая его важным, все же отметил «корень вопроса не в том, чтобы улучшить тюрьмы, а чтобы сделать их совершенно ненужными».
Пожалуй, основой криминологических воззрений на преступность и криминологию Л. И. Шейниса следует признать его вступительную или вводную лекцию по курсу «уголовная антропология» под наименованием «Преступность, её эволюция и социальное значение», которая была опубликована на русском языке в 1905 году в журнале «Вестник знания» [37, с. 57–68]. Аргументировано критикуя антропологический и догматический подходы к преступности, особенно обращаясь к классической школе уголовного права, автор делает вывод: заслуга криминальной антропологии заключается в том, что она сделала серьезную попытку связать преступность с условиями действительности и распространить, таким образом, закон причинности на преступность [37, с. 59]. После чего он делает другой не менее значимый вывод: «Исследование причин или факторов преступности и составляет содержание криминологии или уголовной антропологии, понимаемой в широком смысле слова» [37, с. 61]. Обращаясь к научным доктринам уголовного правоведения по вопросу причин преступности, Л. И. Шейнис пишет: «классическая школа уголовного права просто на просто игнорирует его; криминалисты-антропологи ищут причины преступления, главным образом в индивидуальных особенностях психофизической организации преступника; представители уголовно-социологической школы отводят главное место в этиологии преступности общественным условиям среды» [37, с. 61]. В последующем автор, со ссылками на социологов и экономистов, раскрывает свою позицию по социально-экономическим факторам преступности: взаимосвязь и взаимозависимость между экономическим положением населения и ростом преступности. При этом автор критикует основные подходы к понятию «преступление», отмечая изменчивость правовых подходов к его содержанию в различные времена, у различных народов и при различных обстоятельствах. Исследуя взаимосвязь культуры и преступности, на основе статистических данных, автор приходит к выводу о том, что чем выше уровень культуры, тем ниже уровень криминального насилия. При этом дополняя, что в более культурно развитых регионах при совершении преступлений преступниками чаще используется хитрость и обман.
Безусловно, научную ценность представляют произведения Л. И. Шейниса, посвященные исследованию самоубийств, которые представляли собой часть социальной криминологии и были выделены автором в специальный курс «О самоубийстве, как социальном явлении». О криминологическом значении этих произведений, в свое время писал М. Н. Гернет, давая письменную рецензию на книгу «Проблемы криминологии и социальной психологии» [24, с. 121–122]. Первая из статей «К истории самоубийств» была опубликована в качестве самостоятельной лекции в курсе лекций профессоров Русской Высшей школы общественных наук в Париже, изданном в Санкт-Петербурге в 1905 году [35, с. 85–111]. Вторая статья «Эпидемические самоубийства» была опубликована также в качестве самостоятельной работы, развивающая положения первой [39, с. 129–150]. В самом общем виде кратко и емко общие положения этих статей изложены автором в статье «Самоубийство», опубликованной в Энциклопедическом словаре Русского библиографического института «Бр. А. и И. Гранат и К°» [43, с. 187–196].
В первой из опубликованных работ Л. И. Шейнис указывает на три фазы формирования учения о преступности: 1) когда преступление считается предметом индивидуальной психики, проявлением злой воли; 2) когда преступность ставится в непосредственную зависимость от причин биологических, и 3) уголовносоциологическая школа, которая придает решающее значение социальным факторам. Эти положения в полной мере автор переложил и на этапы развития самоубийства как социального явления. В частности он указывает, что в истории взглядов на самоубийство мы находим те же три главных момента: в течение долгих веков самоубийство приравнивается к преступлению и часто считается даже одним из самых тяжких преступлений; затем оно ставится в зависимость от таких биологических факторов, как расстройства психики или космические влияния, и наконец, в наше время оно становится одним из самых интересных предметов социологического исследования. Указанные выводы сформулированы на основе краткого обзора литературных источников, положений законодательства различных государств, складывавшейся веками правоприменительной практике по делам о самоубийствах — «человекоубийстве самого себя».
Критикуя положения психиатрических доктрин об эпидемических самоубийствах как формы невропатологии, в статье «Эпидемические самоубийства», Л. И. Шейнис, отмечает, что психиатры преувеличивают значение психиатрических отклонений и подражания в этиологии этого явления — причины этого явления социальные. Обратившись к эпидемиям самоистребления раскольников в 1896 и 1897 годах, вблизи Тернополя, автор пишет, причины массового самоистребления носят социальный и экономический характер, которые невозможно устранить административно-санитарными мерами. Автор утверждает «как бы резко ни был выражен психопатический характер таких самоубийств, мы видим, что этот психопатический элемент в свою очередь является только отражением глубоко ненормальных общественных и политических условий — гнетущей экономической нищеты и невежества народа, разнузданного произвола» [39, с. 145].
В дальнейшем автор пишет: «коллективным самоубийствам с такой резко выраженной религиозно-психической окраской, какую носит самоистребление в русском расколе, приходится признать, что объяснение, сводящее все дело к подражательности или к «психической заразе», является далеко не полным: здесь, быть может, более чем где-либо психическая зараза требует для себя уже подготовленной почвы, и в этом предварительном процессе созидания благоприятной почвы первенствующая, если не исключительная, роль принадлежит социальным причинам» [39, с. 145]. По мнению Л. И. Шейниса, на состояние самоубийств в обществе большое влияние оказывают экономические и социальные кризисы, а так же «позорные войны», точнее проигранные государством войны, в частности (война между Россией и Японией) и усиление государственных репрессий. Для наглядности и точности своих выводов, автор использует полученные ранее научные результаты и статистические данные, включая произведения российских криминологов по тенденциям самоубийств в Российской Империи, в частности одну из статей Д. Н. Жбанкова [25, с. 27–40].
Краткие выводы по результатам исследования Проведенный нами структурный анализ основных литературных источников, опубликованных Л. И. Шейнисом в российских изданиях на русском языке в конце XIX — начале ХХ века, позволяет нам сделать некоторые выводы о его взглядах на криминологию, преступность, её причины и меры противодействия ей, а так же на структуру и предметное поле криминологии.
Во-первых, Лев Исаевич Шейнис являлся одним из первых российских специалистов и преподавателей вузов со степенью доктора наук, который читал специальные курсы в общем курсе «социальной криминологии» в Русской высшей школы общественных наук в Париже. Основные научные и учебные произведения этого автора по вопросам криминологии были широко известны не только во Франции, но и в России, поскольку они были частично опубликованы в российской периодической печати.
Во-вторых, Лев Исаевич Шейнис был ярким представителем социологического направления в криминологии, хотя и читаемые им курсы именовались не традиционно для французского и большей части европейского образования — «криминальная антропология». Однако их содержание было направлено на объективное и всестороннее раскрытие содержания «антропологической теории преступности», её конструктивную критику, а также на понимание преступности как социального явления.
В-третьих, по глубокому убеждению Льва Исаевича Шейниса, преступность как массовое негативное социальное явление, вызвано в значительной степени социальными факторами (экономическими, политическими кризисами, несправедливыми войнами, массовыми репрессиями, нищетой населения, его невежеством и др.). По его мнению, биологические, психологические, климатические и иные факторы преступности вторичны по отношению к социальным причинам.
В-четвертых, Лев Исаевич Шейнис полагал, что меры противодействия преступности, в первую очередь, должны носить профилактический характер: обеспечивать социальную справедливость в обществе, исключающую избыточную репрессивность государственного воздействия на преступников, включая применение смертной казни.
В-пятых, анализ литературных произведений по социальной криминологии Льва Исаевича Шейниса, опубликованных в российских периодических изданиях на русском языке, позволяет определить её предметные границы, структуру криминологических знаний и принадлежность к социальным наукам. По его мнению, обязательным элементами социальной криминологии являлись: преступность, причины или факторы преступности, личность преступника и предупреждение преступности.