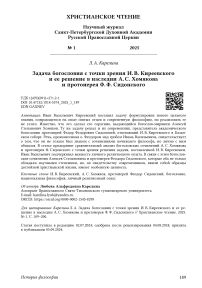Задача богословия с точки зрения И. В. Киреевского и ее решение в наследии А. С. Хомякова и протоиерея Ф. Ф. Сидонского
Автор: Карелина Л.А.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
Иван Васильевич Киреевский поставил задачу формулировки нового цельного знания, опирающегося на опыт святых отцов и современную философию, но реализовать ее не успел. Известно, что это сделал его соратник, выдающийся богослов-мирянин Алексей Степанович Хомяков. Ту же задачу решал и их современник, представитель академического богословия протоиерей Федор Федорович Сидонский, отпевавший И. В. Киреевского в Казанском соборе. Речь, произнесенная о. Федором над гробом Ивана Васильевича, свидетельствует о том, что он не только был знаком с сочинениями почившего философа, но лично с ним общался. В статье предпринят сравнительный анализ богословских сочинений А. С. Хомякова и протоиерея Ф. Сидонского с точки зрения решения задачи, поставленной И. В. Киреевским. Иван Васильевич подчеркивал важность личного религиозного опыта. В связи с этим богословские сочинения Алексея Степановича и протоиерея Феодора Сидонского, которые оба не только обладали научными степенями, но, по свидетельству современников, явили собой образцы достойной христианской жизни, имеют особенную ценность.
И. в. киреевский, а. с. хомяков, протоиерей феодор сидонский, богословие, национальная философия, личный религиозный опыт
Короткий адрес: https://sciup.org/140309270
IDR: 140309270 | УДК: 1(470)(091)+271.2-1 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_189
Текст научной статьи Задача богословия с точки зрения И. В. Киреевского и ее решение в наследии А. С. Хомякова и протоиерея Ф. Ф. Сидонского
Выдающийся отечественный философ Иван Васильевич Киреевский (1806–1856) говорил о своем времени: богословия сейчас в России фактически нет, но «есть задача, соединив принципы святоотеческого любомудрия и достижения современной западной философии, дать современному человеку новое цельное знание» (Киреевский, 1904, 270). Преждевременная кончина прервала его работу над сочинением «О необходимости и возможности новых начал в философии». И. В. Киреевский завершил только первую, критическую часть исследования истории философской науки, не успев представить положительное изложение своей концепции. В подготовительных материалах ко второй части своего исследования И. В. Киреевский высказал мнение о том, что теоретическое религиозное знание «не имеет религиозного значения только потому, что рациональному мышлению невместимо сознание о Живой Личности Божества и о Ее живых отношениях к личности человека» (Киреевский, 2002, 281). По мнению К. М. Антонова, на первый план для него выходит «не познание высших, изменяющих человека истин, а личное отношение человека к Богу» [Антонов, 2013, 45].
-
А. С. Хомяков, готовивший к публикации в «Русской беседе» материал своего соратника, глубоко сожалея о «невознаградимой потере для нашей бедной науки» (Хомяков, 1994, 228), отмечал, что «специальность его была философия» и она «строилась у него так своеобразно, что мы могли надеяться видеть когда-нибудь у себя начало новой философской эры, которой позавидовали бы другие народы» (Хомяков, 1994, 228). Он решает задачу, поставленную почившим соратником, используя достижения современной философии уже на богословском уровне.
Но, кроме богослова-мирянина, эта же проблема волновала и его современника, представителя академического богословия — прот. Ф. Ф. Сидонского (1804-1873). Именно он отпевал И. В. Киреевского в Казанском соборе. Речь о. Федора, сказанная над гробом Ивана Васильевича, была напечатана в том же номере «Русской беседы», где было опубликовано незаконченное сочинение почившего. И. С. Аксаков дал ей высокую оценку, подчеркнув, что «едва ли не в первый раз говорится о литературе и философии священником над гробом покойника» (цит. по: [Полякова, 2009, 54]). Протоиерей Ф. Сидонский раскрывает значение наследия И. В. Киреевского для развития отечественного просвещения и, опираясь на собственный опыт общения с ним, характеризует его личные качества, выделяя «мягкость чувства, дававшую особенную прелесть разговору… необычайную тонкость диалектики в споре, сопряженную с самой добросовестной уступчивостью, когда противник был прав, и с какою-то нежною пощадою, когда слабость противника была явною» (Сидонский, 1856, 2).
Цель данного исследования — выявление особенностей того, как решили задачу, поставленную И. В. Киреевским, его современники — А. С. Хомяков и прот. Ф. Сидон-ский, возможно, лично обсуждавшие с ним те вопросы, которые Иван Васильевич не успел сам раскрыть во второй части сочинения «О необходимости и возможности новых начал в философии». В соответствии с мнением Киреевского о влиянии личного религиозного опыта на философские и богословские представления авторов, для решения поставленной задачи необходимо напомнить основные факты биографий А. С. Хомякова и прот. Ф. Сидонского.
Биографические сведения
Изучению жизни и деятельности А. С. Хомякова посвящены многочисленные публикации, включая масштабный труд В. З. Завитневича [Завитневич, 1902], ставившего его в один ряд с Петром I, М. В. Ломоносовым и А. С. Пушкиным. Материалов о прот. Ф. Сидонском значительно меньше. Наиболее обстоятельное исследование представлено в монографии Ирины Алексеевны Поляковой «Федор Федорович Си-донский (1805–1873). Право на биографию», изданной в 2009 г. [Полякова, 2009].
Алексей Степанович всего на один год старше прот. Федора. Несмотря на разное социальное происхождение, оба получили прекрасное образование. Дворянин
Хомяков экстерном закончил математический факультет Московского университета, а в сер. 20-х гг. изучал современную немецкую философию в кружке любомудров. Сын деревенского диакона прот. Ф. Ф. Сидонский был вторым номером в разрядном списке выпускников 1829 г. Санкт-Петербургской духовной академии. Время его учебы пришлось на инспекторское служение свт. Иннокентия (Борисова), читавшего курсы сравнительного и основного богословия. Возможно, именно он и пробудил интерес Федора Федоровича к философии. Еще одним выдающимся преподавателем, оказавшим влияние на прот. Ф. Сидонского, был библеист прот. Герасим Петрович Павский.
-
А. С. Хомяков в нач. 30-х гг. уволился с военной службы и приступил к самостоятельным исследованиям в области философии, истории и богословия. В этот период Алексей Степанович работал над оставшимся незаконченным масштабным историческим сочинением «Семирамиды». Считается установленным, что его самое раннее богословское сочинение — «Трактат о Церкви», было написано уже в нач. 40-х гг., но опубликовано оно анонимно на французском языке вместе с первой из трех полемических брошюр только в 1853 г., в 1855-м вышла вторая брошюра, а в 1858 г. — третья.
Протоиерей Феодор Сидонский после окончания учебы был назначен клириком Казанского собора и приступил к преподавательской деятельности в СПбДА. В 1833 г. было издано его сочинение «Введение в науку философии» (Сидонский, 1833), за которое автор удостоился полной Демидовской премии. Однако так успешно начавшаяся научная карьера прот. Ф. Сидонского продолжалась недолго. В 1835 г. был отстранен от академической деятельности прот. Г. П. Павский, а следом за ним и его ученик. Протоиерей Ф. Сидонский знал 17 языков и много занимался переводами современной западной литературы, написал несколько исследований по церковной истории, но основной областью его научных интересов была философия. Большая часть его материалов осталась неопубликованной.
Судьбы А. С. Хомякова и прот. Ф. Сидонского были омрачены преждевременными утратами близких людей. В семье Хомяковых сначала умерли двое малолетних детей, а в 1852 г. скончалась жена Алексея Степановича. Прот. Ф. Сидонский овдовел уже в 1835 г., оставшись с двумя малолетними сыновьями на руках, а в конце жизни похоронил и их.
По-видимому, непосредственное знакомство А. С. Хомякова и прот. Ф. Сидонско-го произошло во 2-й пол. 50-х гг. В 1857 г. возобновило свою деятельность «Общество любителей российской словесности», которое до своей кончины в 1860 г. возглавлял А. С. Хомяков, а прот. Ф. Сидонский был его участником. Оба на тот момент входили в состав Императорской Академии наук в области русского языка и словесности: Алексей Степанович как член-корреспондент, а о. Феодор — как действительный член.
После смерти И. В. Киреевского А. С. Хомяков подготовил к печати рукописные фрагменты его трудов, и в послесловии к публикации изложил свои комментарии к ним. Это было его последнее философское сочинение. В России богословские труды А. С. Хомякова вышли уже посмертно, в 1860-х гг.: сначала, отдельные материалы, — в «Православном обозрении», а в 1867 г. — пражское издание, подготовленное Ю. Ф. Самариным. Сочинения Алексея Степановича вызвали дискуссии в церковной периодике. Его апологетами выступили один из редакторов «Православного обозрения» профессор церковной истории А. М. Иванцов-Платонов [Иванцов-Платонов, 1869; Иванцов-Платонов, 1870] и профессор кафедры пастырского богословия СПбДА Н. И. Барсов [Барсов, 1869].
Протоиерей Ф. Сидонский в 1865 г. был удостоен звания доктора философии и возглавил открывшуюся кафедру этой дисциплины в Санкт-Петербургском университете. В 1871 г. о. Феодор получил приглашение занять должность профессора по кафедре богословия и приступил к преподаванию новой дисциплины. Чтение курса «Генетического введения в православное богословие» продолжалось всего один год. В 1873 г. прот. Ф. Сидонский скоропостижно скончался. Его лекции изданы по конспектам учеников в 1877 г. в журнале СПбДА «Христианское чтение» (Сидонский, 1877). Огромная библиотека прот. Ф. Сидонского, насчитывающая более 20000 книг, была выкуплена Санкт-Петербургской духовной академией у его наследников.
Оба автора явили собой образцы достойной христианской жизни для современников. Хорошо известно высказывание профессора СПбДА Н. И. Барсова о Хомякове: он считал его «лучшим христианином земли русской» [Барсов, 1869, 183]. Духовник о. Феодора прот. Сергий Галахов называл свое духовное чадо «красою духовного просвещения и светилом многостороннего образования в церкви и отечестве» (цит. по: [Полякова, 2009, 74]). Если А. С. Хомяков сделал многое для преодоления векового разрыва между аристократией и народом, то прот. Ф. Сидонский своим личным примером высокообразованного священника противостоял антиклерикализму представителей образованного класса.
Философские основания в богословских концепциях
А. С. Хомякова и прот. Ф. Сидонского и их основные источники
Уже в своем раннем сочинении «Введение в науку философии» он утверждал, что именно философия, которая собирает и переосмысливает достижения всех прочих наук, подтверждает авторитет религии и помогает лучше понять ее предмет: «где ищут отчетливого убеждения в вере, только наука, помогающая развитию нашего самосознания, может подавать надежную помощь» (Сидонский, 1833, 179). По его мнению, богословие «только излагает мысли готовые, высказанные в священных памятниках» (Сидонский, 1833, 289), при этом истины боговеде-ния — «как бы путеводные звезды, поставленные по местам горизонта умозрительного, дабы ум мог безопаснее двигаться в обширной области человеческого мышления» (Сидонский, 1833, 288).
Философскому наследию А. С. Хомякова посвящено значительное количество в том числе и современных исследований. Многочисленные неопубликованные историко-критические исследования философских систем о. Федора проанализированы в диссертации Елены Игоревны Векслер «Религиозная философия Ф. Сидонского (Опыт реконструкции)» [Векслер, 2007].
У Канта прот. Ф. Сидонский принимает только нравственное доказательство существования Бога, А. С. Хомяков же соотносит кантовское представление о вещи в себе и явлении с внутренним и внешним в Церкви. Отец Феодор характеризует систему Гегеля критично: по его мнению, она, выходя «в своих воззрениях на природу из понятия о „духе“, кончила так сказать плотью» (Сидонский, 1877, 450); А. С. Хомяков использует гегелевский принцип снятия противоречия тезиса и антитезиса в синтезе для раскрытия межконфессиональных различий, усваивая православию роль преодоления противоречий между романизмом и протестантизмом. Оба автора принимают положение Шеллинга о развитии самосознающего разума. Так, прот. Ф. Сидонский отмечает, что на философию распространяется общий природный закон развития, который, с одной стороны, относится к познавательным способностям человека, а с другой — к расширению сферы его познавательных интересов.
Характерная особенность философии Нового времени — внимание к антропологической стороне в отношениях Бога и человека, — проявившаяся в концепции И. В. Киреевского, находит отражение в богословских сочинениях Алексея Степановича и о. Феодора. Эти сочинения не представляют собой систематического изложения вероучения: авторы решают конкретные практические задачи и обращаются к определенной аудитории.
Трактат о Церкви А. С. Хомякова стилизован под древний катехизис, более поздние материалы представляют собой полемические брошюры. Приоритетной задачей автора является критика западных конфессий, а заодно и отечественного школьного богословия. Обосновывая преимущества православия, А. С. Хомяков обращался в значительной степени к образованным представителям своего сословия не только в России (где среди них были нередкими случаи обращения в католичество), но и европейских стран. Неслучайно непосредственные адресаты его полемических брошюр — конкретные представители западного богословия.
Лекционный курс «Генетическое введение в православное богословие» прот. Ф. Си-донского подготовлен в соответствии с требованиями нового Университетского устава, принятого в 1864 г., согласно которому профессору предлагалось «излагать общее богословие или общую христианскую апологетику, то есть такую науку, в которой излагается учение о религии и откровении вообще и о христианской религии в частности, с изложением самых источников богословия: библии (экзегетика) и церковного предания» (Университетский устав, 1863, 125). Целью преподавания было определено «систематическое изложение общих философско-богословских понятий о религии притом с ее социальной стороны» (Университетский устав, 1863, 125). Протоиерей Ф. Сидонский читал лекции будущим специалистам в области гуманитарных наук в период усиления естественнонаучной критики христианства.
Протоиерей Ф. Сидонский, также как и А. С. Хомяков, стремился преодолеть разрыв между философией и богословием, присущий школьному богословию XIX в. Различие в подходах мыслителей в значительной степени обусловлено тем, что первый из них получил максимально возможное богословское образование, а для второго в рамках действующего академического Устава 1814 г. оно было недоступно.
-
А. С. Хомяков: отношение Церкви-личности и Триипостасного Бога
Богословские труды А. С. Хомякова в определенной степени — плод коллективного обсуждения богословских проблем не только с И. В. Киреевским, но и с соратниками-славянофилами: И. С. Аксаковым, А. В. Кошелевым, Ю. Ф. Самариным, и изучены они не менее хорошо, чем его философские сочинения. Среди современных исследований, посвященных их изучению, выделяются многочисленные публикации прот. Павла Хондзинского, в том числе его монография «Церковь не есть академия» [Хондзинский, 2016]. По его мнению, Алексей Степанович «близок к тому, чтобы поставить знак равенства между философией и богословской наукой» [Хондзинский, 2013, 54].
Все исследователи отмечают акцентированную полемическую составляющую богословского наследия А. С. Хомякова. Он стремится доказать, что односторонняя ограниченность романизма и протестантизма преодолевается в православии. Выстраивая свою критику западных конфессий, Алексей Степанович сопрягает догматическое изменение Символа веры католиками с нравственным преступлением — эгоизмом, нарушением братской любви. Хомяков принимает тезис коллеги Ю. Ф. Самарина о том, что «Церковь не доказывает себя, а поучает и предписывает, определяет, во что должно верить и как должен жить каждый ее член» (Самарин, 1880, 22). Он резко критикует схоластичность догматического богословия митр. Макария (Булгакова), а свое сочинение «О Церкви» неслучайно называет катехизисом.
Один из первых критиков богословских сочинений А. С. Хомякова прот. А. В. Горский отмечал, что он редко обращается к Священному Писанию, не всегда его корректно цитирует (см.: [Горский, 1900, 518]). В основном Алексей Степанович апеллирует к церковному Преданию, которое связывает прежде всего с церковными Соборами как выразителями коллективного сознания Церкви. Творения свв. отцов для него оказываются менее авторитетны, поскольку они, как и все остальные члены Церкви, могут ошибаться, но он учитывает их опыт в противостоянии ересям.
В богословии А. С. Хомякова коллективное преобладает над личным, поэтому для него в отношениях с Богом действующим лицом со стороны человека выступает Церковь. Он рассматривает ее как живую личность и определяет следующим образом: Церковь — «не множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати» (Хомяков, 1994, 5). Благодать подается Святым Духом, который определяет внутреннюю сторону жизни Церкви, поэтому экклезиология у Алексея Степановича связана прежде всего с пневматологией.
Еще одна характерная особенность концепции А. С. Хомякова — заимствованная из романтизма приоритетность внутреннего аспекта в Церкви над внешним. Поскольку жизнь и Крестная смерть Иисуса Христа относятся к внешней стороне жизни Церкви, главным событием в ее жизни для него является не Боговоплощение, а Пятидесятница. Сошествие Святого Духа, по мнению богослова-мирянина, представляет собой дарование познания истины взаимной любви христиан: «исповедует Церковь, что Дух Святой, исходящий от Отца, открывает Церкви не только внешние, но и внутренние тайны Божии» (Хомяков, 1994, 11).
С другой стороны, А. С. Хомяков подчеркивает, что творец Церкви — Триипостас-ный Бог. Анализируя его фрагмент «О Троице», прот. Павел Хондзинский показывает, что внутритроические отношения Алексей Степанович определяет следующим образом: Бог Отец — субъект, Сын — объект, а Святой Дух — новое познание в любви [Хондзинский, 2015]. Таким образом, в рамках концепции А. С. Хомякова исхождение Святого Духа на Церковь идентично внутреннему действию Святого Духа в Троице и отличается от внешнего посылания Святого Духа через Иисуса Христа, которое исповедуют католики, добавив в Символ веры Filioque. Следствием этой идеи является положение об аналогии единства Церкви единству Пресвятой Троицы.
Внутреннее причастие Истины для А. С. Хомякова оказывается истее, чем евхаристическое единение со Христом, так как в Церкви-организме внутреннее для него преобладает по своему значению над любыми внешними проявлениями, в том числе историческими событиями земной жизни Иисуса Христа, которые, по его мнению, не могут влиять на ниспослание Святого Духа Богом Отцом. Он не видит необходимости второго пришествия Спасителя, так как в день Пятидесятницы «на главы учеников, собравшихся в единодушии молитвы, снизошел Дух Божий и возвратил им присутствие Господа, не присутствие, осязаемое чувствами, но присутствие невидимое, не внешнее, но внутреннее» (Хомяков, 1994, 150).
По мнению А. С. Хомякова, «внешнее единство — есть единство, проявляющееся в общении, таинствах, внутреннее — единство Духа» (Хомяков, 1994, 11). В разделе о таинствах он практически отождествляет веpy в Триипостасного Бога с верой Церкви в самy себя, поскольку «она себя пpизнает оpyдием и сосyдом божественной благодати, и дела свои пpизнает за дела Божии, а не за дела лиц, по видимомy ее составляющих» (Хомяков, 1994, 12). Для сакраментологии Алексея Степановича существенно представление о равном распределении даров Святого Духа, которые, по его мнению, изначально были даны не индивидуально, а всей первохристианской общине.
Главным таинством богослов-мирянин считает Крещение во оставление грехов. В нем человек «изъявляет свое согласие на искупляющее действие благодати» (Хомяков, 1994, 13) и входит в единство Церкви. По мнению А. С. Хомякова, оно содержит
«в себе начало всех других» таинств (Хомяков, 1994, 12), про которые говорит буквально: «мы их не отвергаем» (Хомяков, 1994, 13). Причина такой особенной роли таинства Крещения кроется в том, что его может совершить любой член Церкви и только без него, по мнению Хомякова, Церковь не будет существовать. Характерной особенностью экклезиологической концепции А. С. Хомякова, которую отмечали все его критики, является неприятие разделения Церкви на учащую и учащуюся, каковое разделение акцентировано, в частности, в догматических сочинениях митр. Макария (Булгакова). За церковной иерархией Хомяков оставляет совершение всех таинств, но, по его мнению, избираться церковные служители должны общиной, а совершительницей таинств является «вся Церковь в одном лице, хотя и недостойном» (Хомяков, 1994, 14).
В таинстве Миропомазания человек, введенный в церковную общину, принимает дары Святого Духа. Алексей Степанович неизменно подчеркивает, что действующим лицом в совершении каждого таинства является Церковь во всей своей полноте. Так, силу оправдания в таинстве Покаяния имеет только она, а в таинстве Елеосвящения именно Церковь благословляет жизненный путь человека. Смысл таинства Брака он видит в облечении грешного и вещественного в праведность и чистоту. И наконец, освящение причащающегося в таинстве Евхаристии возможно только в случае искренней веры, в противном случае оно будет в осуждение. А. С. Хомяков подчеркивает не только духовное, но и телесное соединение в таинстве с Иисусом Христом.
В последних работах он переходит от понятия о Церкви как живом организме к Церкви-общине, и здесь на первый план выходят нравственно-волевые понятия, обусловленные уже христологией и сотериологией. Причину изменения концепции Алексея Степановича в литературе часто связывают с его дискуссиями в переписке с диаконом Англиканской церкви Пальмером. Однако в то же время, в нач. 50-х гг., он встречался с архиеп. Димитрием (Муретовым), занимавшим Тульскую кафедру. Этот собеседник А. С. Хомякова был лучшим выпускником Киевской духовной академии, любимым учеником свт. Иннокентия Херсонского. Архиепископ Димитрий хорошо знал немецкую философию, его лекции по догматическому богословию существенно отличались от «Православно-догматического богословия» митр. Макария (Булгакова), слушавшего у него этот курс, поэтому он вполне мог повлиять на изменение представлений богослова-мирянина.
В сер. 50-х гг. Алексей Степанович утверждает, что признание Христа Спасителем является необходимым условием искупления, но для него все же важна не внешняя миссия Иисуса, а предвечная жертва Агнца. По сравнению с ранними сочинениями он говорит уже о персональном, а не коллективном спасении. По его мнению, единство истинной Церкви представляет собой согласие личных свобод. «Тайна Христа, спасающего тварь… есть тайна единства и свободы человеческой в воплощенном Слове» (Хомяков, 1994, 179–180), которая «открыта в Церкви свободному единству и свободе верующих» (Хомяков, 1994, 180).
В западных конфессиях связь между ними нарушена рабством или раздором. Итоговое определение отличия православия от западных конфессий А. С. Хомяков выражает в философских категориях свободы и единства. «Единство внешнее, отвергающее свободу и потому недействительное — таков романизм. Свобода внешняя, не дающая единства, и потому также недействительная — такова Реформа» (Хомяков, 1994, 183).
Протоиерей Феодор Сидонский:
личные отношения человека и Абсолюта
Естественно, прот. Ф. Сидонский был знаком с трудами А. С. Хомякова. Хотя о. Федор не высказывался о них публично, но, конечно, он имел свое мнение о богословских представлениях Алексея Степановича, что подтверждают некоторые фрагменты его лекций.
Особенности построения лекционного курса прот. Ф. Сидонского определяют практические цели, поставленные Уставом 1864 г. Он акцентирует внимание слушателей на нравственной проблематике и ставит своей целью привить им стремление к выработке из себя человека, «каков он должен быть по идее — идеального человека, тождественного, по его мнению, христианскому представлению о человеке как образе Божием. Кроме того, значительное внимание он уделяет опровержению рациональной критики христианства, в том числе со стороны современной естественной науки. Профессор СПбДА Николай Павлович Рождественский в своей аннотации к публикации лекций прот. Ф. Сидонского оценивает их как результат «весьма зрелых размышлений серьезного ума и… весьма ценный вклад в русскую богословскую науку» [Рождественский, 1876, 336].
Для философской концепции прот. Ф. Сидонского характерно стремление к примирению противоположностей: он сочетает умозрение с эмпиризмом, частное с коллективным. Бесконечное с конечным, по его мнению, соединено в душе человека, а противоположность между объективным и субъективным устраняется в мистическом соединении души со Сверхсущим. Протоиерей Федор подчеркивает, что в христианстве «реализм и идеализм имеют свои естественные размеры и отношения» (Сидонский, 1877, 591). Духовный элемент, сообщаемый в таинствах, воплощается в видимом и выражает « реализм в убеждении », а нравственное учение, основанием которого является христология, — « идеализм в стремлении » (Сидонский, 1877, 592) человека, целью которого является усыновление Творцом.
Отец Федор утверждает, что идея Абсолюта изначально дана человеческому духу, а Его ограниченное познание возможно как результат движения всех способностей человеческого духа — чувства, воли, разума. Оно должно начинаться с внутреннего религиозного опыта, который, объединяясь с внешним опытом познания мира, синтезируется в философское восприятие мира, человека, истории человечества и завершается постижением идеи Абсолюта [Векслер, 2007, 85] . В этом процессе важно коллективное философское творчество, так как отдельные люди могут ошибаться, а человечество в целом — нет.
Сущность христианства, по мнению прот. Ф. Сидонского, состоит в признании «Божества и человечества в лице Иисуса Христа» (Сидонский, 1877, 453). Н. П. Рождественский справедливо отмечает, что «около этого вопроса автор сосредоточил всё христианское богословие, всё учение о сущности христианства и примкнул к нему всё историческое развитие христианского учения и догматических истин христианства» [Рождественский, 1876, 329]. Значительное внимание в своем курсе прот. Феодор уделяет выявлению особенностей личности Спасителя как идеального человека. Опираясь на евангельские тексты, о. Федор проясняет «Его душенастроение, мировоззрение и нравственное величие» (Сидонский, 1877, 455). В проповеди Иисуса Христа о Царстве Божием прот. Ф. Сидонский подчеркивает принципиальную важность веры человека «в ту отеческую любовь со стороны Бога, которая так милостиво прощает кающегося грешника» (Сидонский, 1877, 471). Он утверждает, что только в этом случае «Спаситель может явиться совершителем царства Божия на земле» (Сидонский, 1877, 471). Это положение соотносится с его представлением о личных отношениях человека и имманентностью Абсолюта как активной любящей силы.
Естественно, что вероучение для прот. Ф. Сидонского, как представителя академического богословия, основано на Откровении. Как и его учитель прот. Герасим Павский, он истолковывает Библию исторически. В своих лекциях о. Феодор выделяет следующие недостатки экзегезы в истории Церкви: буквализм, имеющий глубокие корни в древнеиудейском почитании буквы Священного Писания, а также то, что Католическая Церковь не поднялась до понимания «писания не по условиям своего времени, а по понятиям времени происхождения писания» (Сидонский, 1877, 99). Он отмечает заслуги протестантов, которые «вели науку к составлению правил экзегетики, — выработке метода для правильного уразумения Св. Писания» (Сидон-ский, 1877, 99).
В лекционном курсе прот. Ф. Сидонский ничего не говорит о святоотеческой экзегезе, поскольку «смотреть на Ветхий Завет через призму Нового, а на Новый — через призму святых отцов было для него нарушением принципа „историзма“» [Сухова, 2004, 107], как и для прот. Герасима Павского. В то же время он отмечает, что «писатели церковные не находили опасным пользоваться терминами и выражениями… философии [Платона] относительно Божества, но… не шли далее более или менее внешних элементов» (Сидонский, 1877, 578–579). Именно в этом он видит их заслугу в углублении богословского знания. Сам прот. Ф. Сидон-ский идет дальше — ищет «срединный путь», примиряющий философию и религию, общей целью которых является самопознание.
Историческое толкование Священного Писания сводит к минимуму прообразо-вательную связь Ветхого и Нового Заветов, что находит отражение и в оригинальной сакраментологии прот. Ф. Сидонского, который выделяет прежде всего исторические обстоятельства установления таинств. Он замечает, что в таинстве Крещения, по учению Церкви, благодать состоит не только во введении человека в Церковь, как утверждал А. С. Хомяков, но и «в прямом и действительно благодатном даре, который известным образом определяется в православных катехизисах и под известными условиями связывается со священнодействием и совершением этого таинства» (Сидонский, 1877, 580). Миропомазание о. Федор соотносит с возложением рук апостолов для восполнения благодатных сил, полученных в Крещении.
Действенность таинства Евхаристии прот. Ф. Сидонский связывает с взаимным проникновением идеальной и реальной жизни души. Поэтому для сближения человека со Христом необходимо «стремиться к духовному с Ним общению, но скрытому под тем или другим внешним образом» (Сидонский, 1877, 581). В таинстве Елеосвящения он подчеркивает реальность действия исцеляющей благодатной силы. В связи с раскрытием смысла таинства Брака прот. Ф. Сидонский говорит о Церкви, так как брачный союз, по его мнению, «есть как бы отпечатление союза Христа и Церкви» (Сидонский, 1877, 583). Таким образом, Церковь, с одной стороны, является совершительницей таинств, а с другой, понятие о ней автор соотносит с таинством Брака, но не в прообразовательном смысле ветхозаветных аналогий, а реальной христианской семьи.
Смысл таинства Покаяния прот. Ф. Сидонский связывает с догматом искупления, поскольку в обоих случаях прощаются грехи: в таинстве Покаяния — личные грехи, а в искуплении — первородный грех. В отношении догмата искупления он обращает внимание на то, что «дело, совершенное Христом, в писаниях апостольских получило различные обозначения: не только искупление, но и примирение, спасение, оправдание, всыновление» (Сидонский, 1877, 589). Для концепции прот. Ф. Сидонского предпочтительней термин — «всыновление», как наиболее соответствующий личным отношениям Бога и человека. Он критикует юридизм преобладающего понятия искупления, упрекая в этом католическую схоластику. В историческом толковании Евангелия прот. Ф. Сидонский рассматривает Крестную смерть лишь как самое сильное свидетельство высочайших духовных качеств Иисуса Христа, сравнивая предсмертное поведение Его и Сократа и не связывая Воскресение с Его собственным действием.
В отличие от А. С. Хомякова прот. Ф. Сидонский считает, что на лиц, приемлющих священство, благодать действует особенным образом, а их служение имеет двоякую цель: «низведение благодатных даров… и водительство верующих в разумении тайн царствия Божия» (Сидонский, 1877, 585), но уже при апостолах они выбирались верующими. Изменение практики он связывает с разъединением иерархии и общества. Одним из следствий «безучастия мирян к делам церкви и в частности — к делу избрания пастырей» (Сидонский, 1877, 586) было в одних Церквах принижение, в других — чрезмерное возвышение иерархии. В вопросе о роли иерархии в Церкви прот. Ф. Сидонский близок к А. С. Хомякову. Он утверждает, что «апостолы не давали преемникам… своим… прав на господство в Церкви (курсив автора. — Л. К. ) и над Церковью» (Сидонский, 1877, 586).
В апологетической части своего курса прот. Ф. Сидонский опровергает естественнонаучную критику христианства, и здесь для него важен опыт свв. отцов, которые в свое время противостояли гностическим нападкам на христианство. По его мнению, достижения в различных областях знания получают результирующее осмысление в философии, которая, в свою очередь, способствует углублению понимания вероучительных положений. Мнению позитивизма о человеке, «вполне подавленном природою, без надежды сколько-нибудь бороться с нею» (Сидонский, 1877, 106), он противопоставляет представление о нем как «существе, среди других существ, поставленным в (относительно — конечно) наивыгоднейшее положение, существом, способным не только возноситься над действительностью вообще, но и бороться с нею и побеждать ее» (Сидонский, 1877, 105).
Протоиерей Ф. Сидонский считает, что свобода человека пределами своими опирается на природу самого его существа: «разумному существу настолько предоставлено свободы, насколько оно может выяснить свою разумность по идее, насколько он находит себя в согласии с законом своей природы и чувствует в себе стремление подняться до идеала своей природы» (Сидонский, 1877, 105). «Таинственное общение с „Богом силы“ есть источник тех чудес, которые изумляют людей „плотского воззрения“ на мир, но бросают яркий свет на наше высокое назначение и значение среди окружающей природы» (Сидонский, 1877, 470–471). Он считает, что свобода человека ограничена его природой, поэтому чем совершеннее его нравственное состояние и любовь к Творцу, тем более реальным становится преодоление естественных законов.
Выводы
Подводя итоги, можно отметить, что действительно богослов-мирянин А. С. Хомяков и представитель академического богословия прот. Ф. Сидонский в своих сочинениях представили оригинальные варианты решения задачи, поставленной И. В. Киреевским. Для обоих авторов не подлежит сомнению то, что христианство проникает всю жизнь человека: вера освещает разум и восстанавливает нравственную жизнь.
В их материалах можно отметить выраженную антропоцентричность богословской проблематики, актуализированную современной философией. Оба автора считают возможным приближение к познанию Бога, но А. С. Хомяков — коллективным сознанием Церкви, а прот. Феодор выделяет первичность углубления самосознания человека, и уже затем, по его мнению, личный опыт выдающихся мыслителей традиции складывается в общее мнение Церкви.
Святоотеческое наследие оба автора рассматривают как образец действия Церкви против искажения ее учения как со стороны еретиков, так и от внешних нападок. Причем А. С. Хомяков основное внимание уделяет межконфессиональным различиям, а прот. Ф. Сидонский — апологетике веры перед лицом рациональной критики.
Оба используют для определения православной позиции понятие свободы. В критике романизма и протестантизма А. С. Хомяков подчеркивает важность единства личных свобод членов Церкви. Протоиерей Ф. Сидонский в своей апологетике демонстрирует прямую зависимость свободы человека от его нравственного состояния, определяющегося близостью к Творцу.
В положительной части своих трудов Алексей Степанович рассматривает отношение Церкви-личности с Триединым Богом. Центральная тема для него — экклезио-логия, связанная прежде всего с пневматологией и триадологией.
Прот. Ф. Ф. Сидонский считает основанием христианства Боговоплощение. В его лекционном курсе центральное место занимает христология, а экклезиология раскрывается в связи с сакраментологией, при этом в формулировке богословских положений он опирается на историческое толкование Священного Писания.