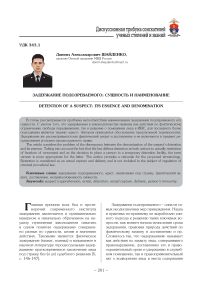Задержание подозреваемого: сущность и наименование
Автор: Шайденко Д.А.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 2 (55), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема несоответствия наименования задержания подозреваемого его сущности. С учетом того, что задержанием в законодательстве названы как действия по фактическому ограничению свободы передвижения, так и решение о помещении лица в ИВС, для последнего более подходящим является термин «арест». Автором приводится обоснование предлагаемой терминологии. Задержание же рассматривается как фактический захват и доставление и не включается в предмет регулирования уголовно-процессуального права.
Задержание подозреваемого, арест, заключение под стражу, фактический захват, доставление, неприкосновенность личности
Короткий адрес: https://sciup.org/140305836
IDR: 140305836 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Задержание подозреваемого: сущность и наименование
Г лавная причина всех бед и противоречий современного института задержания заключается в принципиально неверном и изначально обреченном на неудачу стремлении законодателя охватить в одном понятии «задержание» совершенно разные по сущности, целям и значению действия. Таковыми являются физическое задержание (захват, поимка) и называемое в научной литературе «процессуальным задержанием» кратковременное заключение лица под стражу без (и до) судебного решения [5, с. 146-147].
Задержание подозреваемого – одна из самых неоднозначных мер принуждения. Наука и практика по-прежнему не выработали единого подхода к решению таких ключевых вопросов, как момент начала исчисления срока задержания, правовая природа действий по фактическому захвату и доставлению и пр. Сложилось так, что «задержанием» называют как действия по захвату лица, совершившего правонарушение, доставлению его в правоохранительный орган и удержанию в служебном помещении, так и правоприменительный акт о водворении лица в места содержания

Вестник Сибирского юридического института МВД России
под стражей. Данное обстоятельство создает путаницу в теории и на практике, создает простор для разного толкования и применения норм, регулирующих задержание. Иначе говоря, пока «уличная поимка» и решение о помещении лица в ИВС объединены одним термином, разночтений избежать не удастся.
Нельзя поспорить с авторами курса уголовного процесса под редакцией Л.В. Головко, что «во всех правопорядках без исключения существуют две формы ограничения физической свободы лица в качестве двух автономных мер процессуального принуждения: 1) кратковременное задержание; 2) длительное (в той или иной степени) заключение под стражу. … Между ними есть принципиальная разница: задержание является по своей природе полицейской мерой, т.е. реализацией полицейских функций; заключение под стражу является по своей природе судебной мерой, т.е. реализацией судебных функций» [11, с. 526]. Вместе с тем в наших реалиях задержание подозреваемого, предусмотренное ст. 91 УПК РФ, сложно назвать полицейской мерой.
Во-первых, задержание подозреваемого, как любая другая мера уголовно-процессуального принуждения, применяется на основании специального решения субъекта уголовной юрисдикции [15, с. 19]. Не секрет, что сотрудники полиции, чаще всего сталкивающиеся с задержанием «на улице» (участковые уполномоченные, оперуполномоченные, сотрудники ППС), субъектами уголовной юрисдикции по общему правилу не являются.
Во-вторых, задержание входит в число решений, в связи с которыми лицо приобретает статус подозреваемого (п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ). Непосредственно находиться под стражей и испытывать на себе все связанные с этим негативные последствия может лишь лицо, в отношении которого ведется официальное уголовное преследование. Соответственно, задержание подозреваемого невозможно при отсутствии возбужденного уголовного дела (на что также указывает Пленум Верховного Суда РФ1).
Реализацией полицейских функций являются действия по фактическому захвату и доставлению, называемые в литературе «фактическим задержанием», «полицейским задержанием». Мера принуждения, предусмотренная ст. 91 УПК РФ, по своему содержанию ближе к судебному аресту (заключению под стражу). Многие авторы советского периода определяли задержание подозреваемого как кратковременный/краткосрочный арест [4, с. 51; 10, с. 17; 13, с. 103; 17, с. 276]. У такой точки зрения были противники. Так, Е.М. Клюков указал, что согласно ст. 127 Конституции Союза ССР всякий арест лица возможен только с санкции прокурора или по постановлению суда, и в связи с этим определял задержание как «взятие лица под стражу» [8, с. 15-16]. На что И.М. Гуткин справедливо ответил: «Такая трактовка задержания не вносит ничего нового в понимание сущности рассматриваемого института, ибо взятие под стражу – это не что иное, как арест» [2, с. 5]. В научной литературе задержание подозреваемого воспринимается как кратковременный арест и в настоящее время [3, с. 8].
Однако есть авторы, которые разграничивают фактическое и процессуальное задержание не только сущностно, но и терминологически. Так, Д.Я. Мирский еще в 1969 году писал: «Для того, чтобы избежать одинакового наименования двух разных по своей природе институтов, представляется целесообразным исключить из процессуальной терминологии слово «задержание», а заключение под стражу лица, подозреваемого в совершении преступления, называть «предварительным арестом» [12, с. 298]. Не оставил данную проблему без внимания и П.А. Смирнов: «Учитывая силовой, «задерживающий» характер физического задержания, его и называть следует собственно «задержанием». Процессуальное же задержание, исходя из истинного его предназначения, должно именоваться «кратковременным арестом» [16, с. 21].
Данные предложения вполне обоснованы и могли бы найти место в законе. Однако в ч. 2 ст. 22 Конституции РФ сказано, что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. Формально арест до судебного решения по-прежнему недопустим, как и по Конституции СССР, вопрос лишь в том, о каком аресте Основной закон ведет речь. Авторы одного из комментариев к Конституции РФ считают, что под арестом с учетом принятого в действующем законодательстве словоупотребления могут пониматься: 1) мера пресечения, применяемая в ходе уголовного судопроизводства к обвиняемому или подозреваемому и именуемая «домашний арест» (ст. 107 УПК РФ); 2) административный арест, применяемый в качестве меры административного взыскания (ст. 3.9 КоАП РФ). В УК РФ термином «арест» обозначается вид наказания [9]. Сложно назвать правильным такое буквальное толкование конституционных положений. Разумеется, вышеуказанные меры принуждения подпадают под регулирование ст. 22 Конституции РФ, однако понятие «арест» в ней гораздо шире. Основной закон универсален и не привязан к конкретным мерам принуждения.
В ст. 22 Конституции РФ, на наш взгляд, арест понимается не в формальном, а в сущностном смысле. Имеется в виду ограничение права на свободу и личную неприкосновенность, применяемое уполномоченными властями. В таком же аспекте термин «арест» был использован Президентом РФ в одном из посланий Федеральному Собранию: «Судам следует более взвешенно относиться к избранию мер пресечения в виде ареста и к назначению наказаний, связанных с изоляцией от общества»1.
В конституционно-правовом смысле арест и задержание являются синонимами, означающими ограничение права на свободу и личную неприкосновенность. В этой части согласимся с комментарием к Конституции РФ Е.Ю. Бархатовой: «Часть 2 статьи 22 позволяет рассматривать любой не санкционированный судьей арест в течение 48 часов как задержание, т.е. такое ограничение свободы, которое не требует судебного решения» [1, с. 22]. В сущности, любой акт ограничения свободы, применяемый уполномоченным органом власти, может быть назван арестом. Прочная ассоциация данного термина только лишь с мерой пресечения в виде заключения под стражу в настоящее время представляется неоправданной. То обстоятельство, что ст. 22 Конституции РФ содержит слово «арест», не является препятствием к обозначению данным термином задержания подозреваемого по ст. 91 УПК РФ, иначе, как абсолютно точно отметил Д.Я. Мирский, «нужно будет прийти к выводу, что вообще институт задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, противоречит Конституции, так как для гражданина, взятого под стражу без санкции прокурора, безразлично, называется это действие задержанием или арестом» [12, с. 299].
Нужно понимать, что исторически правовое регулирование задержания выстраивалось на основе заимствования положений зарубежных источников. Исходным здесь можно считать habeas corpus act2, принятый в Англии в 1679 году. Анализируя данный акт в качестве гарантии защиты от произвольного ареста, Б.Н. Чичерин писал, что в Англии, как и везде, полиция не может быть лишена права арестовать людей по подозрению, иначе она не могла бы исполнять своих обязанностей. Но арестованный имеет право обратиться к судье, который посредством предписания habeas corpus требует, чтобы заключенный был ему предъявлен для рассмотрения причин ареста [18, с. 306]. Данное правило было воспринято многими право-порядками, в том числе и нашим. Примечательно высказывание А.Ф. Кистяковского, возмутившегося тем, «в каком несоответствии состоял занесенный из-чужа закон с общим строем нашей общественной жизни» [7, с. 7475]. Подобные мнения существуют и сейчас по поводу включения англо-американских элементов в российское уголовное судопроизводство на рубеже XX-XXI веков.
Тенденция заимствования достижений зарубежной юриспруденции сохранилась и,
,^^я?й^
Вестник Сибирского юридического «^иЛЯИгб6®” института МВД России
к тому же, дополнилась необходимостью соответствия отечественного законодательства многочисленным международным документам. Так, Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой-бы то ни было форме определяет арест как «акт задержания лица по подозрению в совершении какого-либо правонарушения или по решению какого-либо органа»1. В то же время в принципе 2 сказано, что арест, задержание или заключение осуществляются только в строгом соответствии с положениями закона и компетентными должностными лицами или лицами, уполномоченными законом для этом цели2. Налицо логическое противоречие, сначала арест раскрывается через задержание, а затем они перечисляются как разные меры. Однако если посмотреть на эти положения на английском языке, то в первом случае используется слово «apprehending», а во втором «detention». Оба этих слова переводятся на русский язык как «задержание».
Проведя семантический анализ, В.Н. Шашкова пришла к следующим выводам: для лексемы «apprehension» в ассертивной части семантики содержится факт задержания, в то время как ассертивная часть семантики лексемы «detention» включает акт содержания подозреваемого лица под стражей, а не процесс его поимки и заключения под стражу. В качестве второго отличительного признака выделяется указание причин: «… лексема «apprehension» в вербальном окружении типично не имеет причин задержания… Лексема «detention» допускает актуализацию причин …» [19, с. 154]. В первом случае речь идет о поимке, «фактическом задержании», во втором имеется в виду содержание лица под стражей, нахождение его в состоянии лишения свободы без судебного решения. Оговоримся, что ранее процитированный международно-правовой акт был приведен в качестве примера, показывающего отличия западной и российской терминологии.
Мы не утверждаем, что все проблемы, связанные с задержанием, вызваны «трудно- стями перевода». Тем не менее стоит признать, что наше «задержание» не отражает всех тонкостей, обозначающихся в зарубежных источниках разными терминами. Кроме того, сформировавшаяся в советские годы стадия возбуждения уголовного дела ставит под сомнение тезис о двух формах лишения свободы (полицейской и судебной). То обстоятельство, что в России сформировалась особая, самобытная национальная модель уголовного судопроизводства, предполагающая интеграцию «классических» следственных полномочий с «полицейскими», относящая процессуальную функцию предварительного расследования к компетенции «силовых» министерств и ведомств [15, с. 153], позволяет прийти к выводу, что между полицейским и судебным лишением свободы есть некое промежуточное «следственное» звено. Возникшее по этим причинам противопоставление процессуального и непроцессуального задержания, как представляется, должно быть прекращено в связи с введением нового термина.
Согласимся с В.В. Кальницким, что «термин «задержание» в силу универсальности используется в других отраслях права, где среди прочих смыслов означает пресечение преступной деятельности, силовой захват правонарушителя» [6, c. 155]. Задерживать и доставлять граждан в правоохранительный орган имеет право целый ряд ведомств, уполномоченных на применение мер государственного принуждения (ФСБ, Росгвар-дия, ФСО, МВД, ФТС и др.), а также любой гражданин. Речь идет как раз о фактическом ограничении свободы (поимке), а не о мере процессуального принуждения. К тому же при задержании лица в условиях пресечения противоправного деяния нет возбужденного уголовного дела и не всегда ясно, имеет место преступление или административное правонарушение. В этой связи нет оснований не согласиться с мнением, что термин «задержание» можно уступить тем отраслям права, где оно более уместно (где регламентируемые действия в большей степени соответствуют этимологии слова «задержание»), оставив в уголовно-процессуальной сфере выражение «краткосрочный арест» или иное подобное [6, с. 157].
В обоснование высказанных тезисов хотелось бы привести несколько доводов (далее для более ясного разграничения задержание подозреваемого по УПК РФ будем называть арестом).
Задержание имеет пресекательный характер, предполагает неотложность, оперативность, имеет преимущественно административно-правовую (в широком смысле) природу, применяется при охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Арест, являясь мерой процессуального принуждения, применяется в рамках официального уголовного преследования надлежащим субъектом (следователем, дознавателем, органом дознания). Лицо должно быть арестовано при необходимости заключения его под стражу, что требует наличия полученной процессуальными средствами совокупности доказательств. Следовательно, арест имеет обязательный и обеспечительный характер по отношению к судебной процедуре избрания меры пресечения.
Сам по себе термин «арест» исторически имеет более процессуальный оттенок, как нельзя лучше подходит для уголовной юстиции. «Задержание» же ассоциируется с полицейской деятельностью, силовым воздействием, физическим захватом и препровождением.
Термин «арест» как в УПК РФ, так и в другом законодательстве является «свобод- ным» и не задействованным в интересующем нас контексте досудебного лишения свободы, в отличие от задержания. Последнее содержится во всех законах о «силовых» ведомствах, так как без возможности задержания нет смысла в полномочиях на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
В качестве дополнительного наблюдения можно привести содержащееся в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ полномочие следователя давать поручение органу дознания об аресте. Проводя аналогию с полномочиями начальника органа дознания и дознавателя (п. 6 ч. 1 ст. 40.2, п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ), можно прийти к выводу, что речь идет о заключении под стражу. С учетом того, что в данный момент термин арест в таком контексте не употребляется, эти положения можно считать зачатком нормативной базы для высказанных предложений.
Обобщая вышесказанное, необходимо сказать, что в настоящее время нет объективных препятствий к тому, чтобы называть задержание подозреваемого, предусмотренное ст. 91 УПК РФ, более подходящим к его сущности термином. Не категорично, но как вариант, таким термином может быть «арест». Тогда глава 12 УПК РФ будет иметь название «Арест подозреваемого». В свою очередь, задержание как деятельность по фактическому ограничению свободы передвижения (фактический захват и доставление) имеет межотраслевой характер и требует отдельного регулирования и систематизации.
Список литературы Задержание подозреваемого: сущность и наименование
- Бархатова, Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации. Новая редакция с поправками / Е.Ю. Бархатова. – 3-е изд. – М.: Проспект, 2021. – 245 с.
- Березин, М.Н. Задержание в советском уголовном судопроизводстве / М.Н. Березин, И.М. Гуткин, А.А. Чувилев. – М.: Академия МВД СССР, 1975. – 93 с.
- Булатов, Б.Б. Фактическое задержание как уголовно-процессуальное понятие / Б.Б. Булатов, В.В. Кальницкий // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2023. – Т. 29. – N 1(88). – С. 5-11.
- Давыдов, П.М. Применение мер процессуального принуждения по основам уголовного судопроизводства Союз ССР и союзных республик: учебно-практическое пособие / П.М. Давыдов, П.П. Якимов ; под ред. И.И. Семерикова. – Свердловск, 1961. – 118 с.
- Зайцев, О.А. Подозреваемый в уголовном процессе / О.А. Зайцев, П.А. Смирнов – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 320 с.
- Кальницкий, В.В. О наименовании и так называемом неотложном характере задержания подозреваемого / В.В. Кальницкий // Правовые и гуманитарные проблемы уголовно-процессуального принуждения: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения Б.Б. Булатова. – Омск: ОмА МВД России, 2024. – 264 с.
- Кистяковский, А.Ф. О пресечении обвиняемому способов уклоняться от следствия и суда / А.Ф. Кистяковский. – СПб.: Издание «Судебного вестника», 1868. – 196 с.
- Клюков, Е.М. Мера процессуального принуждения / Е.М. Клюков. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1974. – 108 с.
- Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. Л.В. Лазарева. – 3-е изд. – М.: Проспект, Новая правовая культура, 2009. – 816 с.
- Копейко, П. Строго соблюдать закон при задержании подозреваемых в совершении преступлений / П. Копейко, Л. Иванов, // Социалистическая законность. – 1964. – N 3. – С. 19-20.
- Курс уголовного процесса / под ред. Л.В. Головко. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Статут, 2021. – 1328 с.
- Мирский, Д.Я. Правовая природа задержания лица, подозреваемого в совершении преступления / Д.Я. Мирский // Труды Иркутского ун-та. Серия юрид. – 1969. – Т. 45. – Вып. 8. – Ч. 4. – С. 294-301.
- Похмелкин, В.А. Задержание по советскому уголовно-процессуальному законодательству / В.А. Похмелкин // Советское государство и право. – 1958. – N 12. – С. 102-107.
- Россинский, С.Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход: монография / С.Б. Россинский. – М.: Проспект, 2020. – 192 с.
- Россинский, С.Б. Протокол – лишнее звено в механизме задержания лица по подозрению в совершении преступления / С.Б. Россинский // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – N 12 (97). – С. 150-163.
- Смирнов, П.А. Подозреваемый в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук / П.А. Смирнов. – М., 2003. – 24 с.
- Строгович, М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М.: АН СССР, 1958. – 468 с.
- Чичерин, Б.Н. Собственность и государство / Б.Н. Чичерин // Сочинения. Часть 2. Книга 3. – М., 1883. – 457 с.
- Шашкова, В.Н. Идеографические синонимы сквозь призму денотативной матрицы / В.Н. Шашкова // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2023. – N 2(100). – С. 151-157.