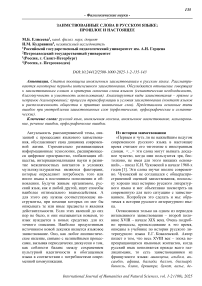Заимствованные слова в русском языке: прошлое и настоящее
Автор: Елисеева М.Б., Кудрявина И.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 1-2 (100), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена иноязычным заимствованиям в русском языке. Рассматриваются некоторые периоды интенсивного заимствования. Обсуждается отношение говорящих к заимствованным словам и критерии освоения слова языком (семантическая необходимость, благозвучность и уместность использования). Анализируются виды заимствования - прямое и непрямое (калькирование); процессы трансформации и условия заимствования (контакт языков и расположенность общества к приятию иноязычных слов). Представлены основные типы ошибок при употреблении заимствованных слов (орфоэпические, орфографические и семантические).
Русский язык, иноязычная лексика, иноязычное заимствование, калькирование, речевые ошибки, орфографические ошибки
Короткий адрес: https://sciup.org/170208943
IDR: 170208943 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-1-2-135-143
Текст научной статьи Заимствованные слова в русском языке: прошлое и настоящее
Актуальность рассматриваемой темы, связанной с процессами языкового заимствования, обуславливает сама динамика современной жизни. Стремительно развивающиеся информационные технологии, расширяющееся цифровое пространство, глобализация общества, интернационализация науки и развитие межличностных контактов в условиях мультикультурализма являются факторами, которые определяют потребность того или иного языка в постоянном пополнении и обновлении. Будучи живым организмом, русский язык, как и любой другой, ищет способы наиболее оптимального взаимодействия. А для этого ему нужны соответствующие инструменты, при помощи которых он мог бы описывать те или иные предметы и явления действительности. Если этих явлений до сих пор не было, и они оказываются новыми, то язык нуждается в новых средствах для их точного описания. Наиболее продуктивным источником новой лексики является языковое заимствование. Оно, как любое лингвистическое явление, связано с нелинейными процессами, вызывая периодически дискуссии о том, как соблюсти баланс между сохранением культурной идентичности и обогащением языка в соответствии с потребностями современной коммуникации.
Из истории заимствования
«Первым и чуть ли не важнейшим недугом современного русского языка в настоящее время считают его тяготение к иностранным словам. <…> эти слова могут вызвать досадное чувство, когда ими пользуются зря, бестолково, не имея для этого никаких оснований», – писал К.И. Чуковский в начале 1960-х годов [1]. Эти слова звучат вполне современно. Чуковский не соглашался с общераспространенной оценкой заимствования, поскольку хорошо знал историю русского литературного языка и мог объективно посмотреть на современную для него ситуацию с заимствованием. Попробуем это сделать и мы: обратимся к истории русского литературного языка.
Остановимся только на одном из периодов интенсивного заимствования – второй половине XVIII – начале XIX века. Очень подробно процессы, происходившие в это время, описаны в учебнике по истории русского литературного языка Е.Г. Ковалевской. Автор пишет о том, что весь XVIII век – эпоха не-прекращающихся языковых контактов, когда русский язык пополняется прежде всего галлицизмами, то есть заимствованиями из французского языка: авансцена, альбом, ансамбль, афиша, баллада, баллон, биллиард, бинокль, бланк, брошюра, букет, вальс, де- таль, дирижер, жилет, идеал, интерес, кокетка, контраст, костюм, ликер, паркет, партнер, пейзаж, персонаж, сюжет, тост, тротуар, факт, флакон, шаль, эгоист, эстетика, этюд и многими другими [2].
Русский язык пополнялся словами и из других языков, например, музыкальная лексика приходит из итальянского ( аккомпанемент, аккорд, браво, виртуоз, соло ), множество издательских терминов являются германизмами ( абзац, кегль, шмуцтитул, шрифт, форзац ). Эти слова являются примерами прямого заимствования, без которых невозможно сейчас представить себе русский язык.
Способ, который активно использовался в XVIII веке, – непрямое заимствование, или калькирование. Калька (фр. копия ) – образование нового фразеологизма, слова или нового значения путем буквального перевода иноязычной языковой единицы (морфемы, значения, фразеологизма). Словообразовательные кальки – это поморфемный перевод иностранного слова, например: русское слово внутримышечный – это перевод латинского intramuscularis; русское впечатление – перевод французского impression. Этим способом образованы слова влюбленность, общественность, промышленность, совесть, человечность. Словообразовательные кальки в свою очередь подразделяются на полноценные (приведенные выше), и полукальки – заимствования, в которых калькирована лишь одна часть слова. В качестве примера подобной языковой трансформации можно привести слово постправда . Появившееся в 2010 году оно означает «намеренную организацию потока информации таким образом, что объективные факты являются менее значимыми, чем субъективные мнения людей и их эмоции» [3, с. 292]. Термин уже нашел отражение в новейших отечественных лексикографических трудах (см. также [4, с. 296]).
Семантическая калька построена на заимствовании переносного значения слова. В русском языке появились переносные значения слов вкус, выгорание, вызов, живой, плоский, токсичный, черта. Стало возможным сказать: тонкий вкус, профессиональное выгорание, вызов времени, живой интерес, плоская шутка, токсичные отношения, черта времени и т.п. Некоторые из таких слов утратили прямые значения и употребляются сегодня только в переносных: влияние – это воз- действие, авторитет, а отнюдь не вливание; упоение – восторг, восхищение, а не опьянение.
Интересна история слова трогать (вызывать сочувствие). В 1748 году А.П. Сумароков переводит шекспировского «Гамлета», используя в качестве оригинала французский перевод трагедии. Он впервые употребляет это прилагательное как семантическую кальку с французского слова toucher, желая сказать, что смерть мужа не вызвала сочувствия у жены: «И на супружню смерть нетронута взирала». Новизна избранного переводчиком значения слова вызвала критику В.К. Тредиаков-ского: «Кто из наших не примет сего стиха в следующем разуме (смысле), именно ж, что у Гертруды супруг скончался, не познав ее никогда, в рассуждении брачного права и супру-говы должности?» (цит. по: [5, с. 172]). Однако новое значение было усвоено языком, а впоследствии слова трогать и трогательный стали знаковыми для сентиментализма.
Еще одной разновидностью заимствования являются кальки фразеологические. К ним относятся переводы соответствующих иноязычных устойчивых выражений: игра не стоит свеч, видеть все в черном свете, сломать лед. В XXI веке эта языковая модель формирования новых понятий по-прежнему оказывается весьма продуктивной в семантическом поле социальных взаимодействий: зона комфорта, моральная травма, мягкая сила, работа мечты. Примечательно, что в определениях, относящихся к деликатной, а потому сложной для адекватной терминологии сфере человеческих отношений, язык прибегает к фигуральным средствам выражения, используя троп в качестве посредника. К этой же категории фразеологических заимствований относится фразеологизм информационный пузырь (пузырь фильтров). Авторство термина принадлежит Э. Паризеру, американскому интернет-деятелю и активисту. Его идея, высказанная в книге «За стеной фильтров», состоит в том, что поисковые системы намеренно подстраиваются под историю поиска каждого пользователя и подгоняют результаты под его предпочтения. Таким образом вокруг каждого из нас формируется информационный «пузырь», лишающий нас объективного взгляда на мир, поскольку человек окружен только той информацией, ко- торая соответствует его ценностям и взглядам [6].
Отношение к заимствованным словам и критерии усвоения слова
Споры о «чистоте» русского языка, свидетелями которых мы являемся и сегодня, длятся не одно столетие. Отметим две типичные точки зрения на употребление иноязычных слов, сформировавшиеся еще в среде русской интеллигенции XVIII – начала XIX века. Одна из них связана с именем Н.М. Карамзина – первого русского писателя, творчество которого получило широкую известность не только в России, но и в Европе. Карамзин и его приверженцы, «карамзинисты», были сторонниками разумного и уместного заимствования, расширявшего возможности русского языка. В своих сентименталистских произведениях, а также в знаменитых «Письмах русского путешественника» – книге, описывающей быт французов, англичан, швейцарцев, автор использовал иноязычную лексику, а также придумывал новые слова для передачи понятий, отсутствовавших в то время в русском языке. Необычайная популярность произведений Карамзина способствовала усвоению этих слов литературным языком.
Противниками Н.М. Карамзина и приверженцев нового слога были пуристы – архаисты, выступавшие против любых заимствований, лагерь которых возглавлял адмирал, министр народного просвещения, президент Академии российской А.С. Шишков.
Каковы же были аргументы сторонников старого слога? Шишков и его единомышленники исходили из положения о неизменности литературного языка, а все новшества в нем считали пагубными. Карамзин же отстаивал право языка на свободное развитие: «Слова не изобретаются академиями: они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка, или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение. Сии новые, мыслию одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают его, без всякого ученого законодательства с нашей стороны: мы не даем, а принимаем их. Самые правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют; надобно только открыть или показать оные» [7, с. 233]. О том, что изменчивость языка вполне закономерна, писали и «карамзинисты». Поэт и переводчик А.Ф. Воейков апеллировал к древнеримской традиции:
«Слова и выражения, говорит Гораций, цветут и упадают, как древесные листья: для них есть своя весна и осень»; а критик П.И. Макаров уточнял: «Нужно спорить не о том, надо ли брать у иностранцев, а о том, как и что брать, так как есть в нашем языке законы, по которым одни иностранные слова удерживаются в нем, другие же не принимаются или остаются книжными и неприятными для русского уха» (цит. по: [8, с. 239].
Процесс интенсивного заимствования часто связан с веяниями моды. В XVIII столетии это была галломания – чрезмерное пристрастие ко всему французскому. Но далеко не все галлицизмы, употреблявшиеся в XVIII – начале XIX века, остались в русском языке. Мы говорим осмотр , а не визитация ; не прижились имажинация , плезир и многие другие слова.
Важно отметить, что если прямые заимствования в той или иной мере могут и сегодня вызывать дискуссии, то кальки благодаря органичности вхождения в чужую языковую среду и плавности их трансформации в ней заслужили самое лояльное отношение противников языковой интернационализации. Н.Б. Мечковская отмечает быструю адаптацию калек (процесс такого рода заимствования лингвист уподобляет одомашниванию) и их сложную диагностику: «Кальки проникают в языки незаметно, в качестве едва ощутимой речевой небрежности или смелости, и распространяются быстро» [9, c. 227].
Решая сегодня вопрос, насколько обосновано употребление того или иного заимствованного слова, необходимо определить:
-
а) передает ли новое слово какое-то новое значение;
-
б) благозвучно ли это слово для русского языка;
-
в) уместно ли оно использовано в данном случае?
Привносит ли слово нечто новое, далеко не всегда говорящим сразу очевидно. В 1990-х годах мы спорили, выясняя, нужно ли русскому языку слово йогурт, поскольку есть слово кефир. Тогда было сломано немало копий для того, чтобы доказать «особость» этого кисломолочного продукта. Несмотря на то что слово было известно еще в 1930-х годах и зафиксировано словарем под редакцией Д.Н. Ушакова в варианте югурт и ягурт (слово имело значение «болгарское кислое моло- ко» [10, с. 1444]), продукт у нас не производился, и слово обрело вторую жизнь лишь с конца 1980-х.
Главным критерием освоения языком заимствованного слова является именно специфичность значения. Немаловажно при этом, как слово звучит. Так, некоторое время в русском языке просуществовало неблагозвучное для нашего языка слово шоп , и судьбу его решила, вероятно, лишняя ассоциация и способность склоняться в русском языке. Возможно, имело значение и то, что уже не меньше двух веков мы использовали французское слово магазин , а слово шоп не приобрело никакой специфики значения: не стало обозначать, например, какой-то особый тип магазина. Однако появились и закрепились в русском языке шоп-тур и секс-шоп, поскольку эти слова все же называют то, чего прежде не было в российской действительности. Закрепилось и приобрело специфику значения слово шопинг – это не просто поход в магазин, но форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, часто сопровождаемое попутными развлечениями. Распространенным в русском языке стало слово шопоголизм для обозначения непреодолимого желания совершать покупки.
Некоторые неблагозвучные слова усваиваются языком, часто оставаясь при этом уделом узкого круга людей - специалистов в какой-либо области. Экономисты употребляют термин франшиза (право на пользование торговой маркой), а на уровне подсознания мозг улавливает созвучность с названием ментального нарушения. Сторонники здорового образа жизни используют слово воркаут (тренировки с весом собственного тела на уличных спортивных снарядах), но его неблагозвучие создает образ похитителя, в результате встречи с которым ты остаешься ни с чем. Англицизм нетворкинг (создание и развитие сети полезных знакомств) ввиду своего специфичного звучания формирует образ «нетворческого» человека, которому остается полагаться только на связи, а не на результат своей работы.
Нужно учитывать и то, что поначалу любое новое иностранное слово может вызывать неприятие. Так, А.А. Блок протестовал против слова дифференциация . В.В. Набоков вместо кроссворда использовал крестословицу . В 1920-х годах эмигрантской прессе телефон предлагали называть дальносказом, кондитерскую – сластежной, вокзал – станом, а адъютанта - попыхачем [11].
Можно делать прогнозы относительно тех или иных слов - останутся они в языке или исчезнут, но быть готовыми к тому, что прогнозы эти могут и не сбыться. Даже самый тонкий и внимательный наблюдатель может здесь ошибиться. Так, крупнейший специалист по иноязычным словам Л.П. Крысин в 1960-х годах, когда появилось много заимствований из английского языка ( джинсы, клипсы, кемпинг, лазер, мотель, мотороллер, нейлон, транзистор, битник, стриптиз, секс, хобби и др.), писал о «случайных», с его точки зрения, заимствованиях: чипсы, буклет и пас-синг [11]. Мы видим, что прогноз о том, что эти слова не имеют возможностей остаться в русском языке, сбылся только относительно пассинга (перехода). Что касается чипсов , то если изначально это были тонкие хрустящие ломтики обжаренного в масле картофеля, то сегодня их могут делать из фруктов, овощей, муки и крахмала; они могут быть запечены или подсушены. Буклет - отнюдь не любая брошюра, а издание, которое читают или рассматривают, раскрывая как ширму.
Показательно, что обрусевшие, привычные иноязычные слова воспринимаются иногда «более русскими», чем исконно русские слова с тем же значением. К.И. Чуковский приводит несколько примеров подобных слов: фонтан ( водомет ), архитектор ( зодчий ), скульптор ( ваятель ) [1].
Виды заимствования
Слово может войти в употребление вместе с предметом, понятием или явлением. Этот тип заимствования редко вызывает противодействие даже самых ярых пуристов, ведь большая часть таких слов - это термины, не имеющие эквивалента в языке-реципиенте:
акция, верфь, гавань, домкрат (из голландского), азимут, альманах (из арабского), дамба (из исландского), робот (из чешского, автор – К. Чапек), омбудсмен (из шведского), абразив, авангард, кулиса, партер (из французского), букридер, дауншифтинг, рейтинг, тачпад (из английского).
Порой заимствуются и слова, дублирующие уже существующие наименования. Именно это вызывает возражения у поборников чистоты русского языка. К подобной категории заимствований можно отнести слова баг (ошибка), гайд (руководство), донат (пожертвование), пранк (розыгрыш), пролонгация (продление), пруф (доказательство), фолловер (подписчик), юзер (пользователь). Однако живые процессы, происходящие в каждом языке, гораздо сложнее, чем мы можем предполагать на первый взгляд. Очень часто такие заимствования работают на перспективу, словно предусматривая процессы дальнейшей дифференциации языковых средств – семантической и стилистической. Так, донат – чаще всего это денежное пожертвование, которое делается в качестве благодарности или поддержки за какую-либо услугу, оказываемую бесплатно. Пранк из первоначально безобидного розыгрыша превратился в злое телефонное хулиганство с целью поставить в невыгодное положение доверчивого человека. Слово пролонгация будет выглядеть гораздо уместнее в научном тексте, чем нейтральное продление. Воспринимаемое в отрыве от ин-тернет-среды слово пруф вполне может восприниматься как проявление молодежного жаргона, избыточного на фоне существующего русского слова доказательство. Однако, будучи использовано в профессиональной речи, в контексте интернет-сообщества оно дает большие возможности словообразования. «Доказательство в виртуальном пространстве может быть представлено несколькими стандартными способами, поэтому пруф часто входит в состав других слов, указывающих на эти способы: пруфлинк (ссылка с доказательством, например статья или текст официального источника), пруфпик (картинка, где ясно видно то, о чем говорит человек), пруфскрин (скриншот экрана компьютера)» [12, с. 100101]. Как видим, в данном случае заимствование служит незаменимым средством языковой экономии, что выражается в лаконичности терминологии из области цифровых технологий.
Именно так работает критерий уместности в дискуссиях о правомерности использования заимствованных слов.
Нередко в момент появления слова в языке нам кажется, что у нового слова есть русский синоним; но это или не так, или через некоторое время становится не так. Причиной появления заимствования может быть потребность уточнить и детализировать соответствующее понятие, разграничить смысловые оттенки, прикрепив их к разным словам. Например, несмотря на существование в русской лексике межъязыковой пары легальность – законность , где одно слово заимствовано из латыни, а другое – исконно русское, в текстах, посвященных правовому и политическому регулированию, возникает потребность в еще одной лексеме легитимность . Что нового привносит этот термин в общественный и научный дискурс, какой оттенок смысла он в себе содержит, которого не было в давно укоренившемся этимологическом дуплете? «Легитимность и легальность власти – понятия не совпадающие. Если легальность означает юридическое обоснование власти, ее соответствие правовым нормам, что выступает ее юридической характеристикой, то легитимность – это доверие и оправдание власти, что выступает ее нравственной характеристикой» [13, с. 45]. Именно при несовпадении содержательной легитимности и легальности может возникнуть ситуация, при которой «в одних странах государственная власть может быть легальной, но нелегитимной, в других – легитимной, но нелегальной, в-третьих – и легальной и легитимной» [14, с. 145-146].
В процессе русификации иноязычное слово может совершенно изменить свое значение: по-французски авантюра – приключение, происшествие; по-русски – рискованное, сомнительное по честности дело, предпринятое в расчете на случайный успех. Пришедшее в русский язык как неологизм слово может быстро стать общеупотребительным, а затем устареть с исчезновением из активного обращения самого предмета или явления, которое оно обозначает. Уже в конце 2010-х годов из нашего повседневного речевого обихода практически ушло слово аська , хотя в предметном обиходе сама компьютерная программа ICQ просуществовала еще вплоть до
2024 года. ICQ (омофон английского выражения I seek you – «я ищу тебя») – один из первых мессенджеров, предназначенный для мгновенного обмена сообщениями через интернет, пользовавшийся огромной популярностью как в России, странах СНГ, так и по всему миру. Заявившая о себе в ноябре 1996 года программа к 2005 году насчитывала 500 млн пользователей, но с появлением крупных соцсетей и новых мессенджеров она постепенно стала терять популярность, пока весной 2024-го не было объявлено о прекращении работы сервиса (см.: [15; 16]).
Условия заимствования
Главным условием заимствования большинство лингвистов считает контакт языков и, как следствие этого, хотя бы частичное двуязычие говорящих. Наиболее активными в первые два десятилетия XXI столетия были контакты в сфере бизнеса и науки. Они явились закономерным следствием процессов глобализации и информатизации общества. Если говорить о науке, то интенсивности межъязыковых контактов в этой сфере способствовало не только расширение исследовательской деятельности с участием ученых разных стран, разработка совместных проектов, проведение международных конференций, но и новые требования к академическим публикациям, диктуемые критериями наукометрии. Некоторые научные журналы стали двуязычными. Российские ученые получили возможность печатать свои статьи на английском языке.
Другое важное условие заимствования заключается в том, чтобы общество было расположено к приятию иностранных слов. Общество может отнестись к фактам заимствования резко отрицательно и сознательно пытаться освободиться от иноязычных слов. Так было в истории советского общества, когда в конце 1940-х годов развернулась борьба с космополитизмом, одним из проявлений которого стало то, что не только не принимались новые заимствования, но и изгонялись старые, привычные иностранные слова. Иноязычное слово ассоциировалось с чем-то идеологически чуждым, непатриотичным, враждебным. Это коснулось даже специальных областей знания, например техники, кулинарии. В учебниках для технических вузов вместо бульдозера и скрепера появились тогда тракторный отвал и тракторная лопата. В кулинарии высмеивались лангет, эскалоп, антрекот (все это предлагалось называть просто мясо). Знаменитый кондитерский магазин «Норд» на Невском проспекте Ленинграда в 1951 году был переименован в «Север», а пирожные, продававшиеся там, изменили свои экзотические французские названия: буше стало «круглым», эклер – «продолговатым», а пирожное шантеклер просто исчезло, «поелику равносильного ему слова не отыскано было», как сказали бы в XVIII веке.
Примером противоположного отношения к языковому заимствованию является ситуация интегрированности отечественной культуры в общемировой контекст с 2000-х до начала 2020-х годов. Это можно проследить как по лексике, относящейся к семантическим группам «Культура», «Сфера развлечений» ( аф-тепати/афтерпати, квест, приквел, сиквел, нон-фикшн и др.), так и по словам, которые прежде не составляли особую понятийную категорию среди заимствований, – лексике, описывающей социальное взаимодействие людей, этическую сторону их отношений. В русский язык вошли такие понятия, как абьюз, бодипозитив, буллинг, гостинг, стал-кинг, френдзона, харассмент, хайп, хейтер, эйджизм и др. Часть из них своим широким распространением обязана молодежному сленгу, часть – средствам массовой информации, анализировавшим острые проблемы современности, например новую этику (отметим, что само это определение является новейшим заимствованием). Подобные слова и словосочетания, характеризующие особенности межличностного общения на начало 2020х годов составили довольно большой пласт лексики. Это позволило ученым из Екатеринбурга на основе проведенного ими исследования составить «Словарь актуальной лексики единения и вражды в русском языке начала XXI века». Современная коммуникация представлена в нем через призму цифровизации, что дало возможность взглянуть на взаимодействие людей «с той стороны, которая предопределена намерениями участников общения установить контакт, сблизиться, добиться согласия, договоренностей, заявить о своей принадлежности к группе, коллективу... либо, наоборот, отдалиться от всех, разорвать отношения, выплеснуть недовольство, выразить неодобрение» [3, с. 8-9].
Как говорилось выше, важно учитывать и языковые основания для усвоения иностранного слова. Д.К. Ефимов считает значимыми частотность использования слова в СМИ, стандартность звучания, продуктивность словообразовательной модели, а также словообразовательную и фразеологическую активность в языке-рецепиенте [17].
Ошибки при употреблении заимствованных слов
Заимствованные слова могут претерпевать в речи различные фонетические трансформации, которые в свою очередь могут отразиться и на письме: грейпфрут (англ.) превращается в «грейфрукт», «грейтфрукт» или попросту в «грейп»; почтамт (нем.) - в «почтамп» или «почтампт», бидон (фр.) - в «битон». В словах Дуршлаг, пуловер и скрупулезный звуки меняются местами, происходит ненормативная перестановка («друшлаг», «полувер» и «скурпулезный»). В словах нюанс, юрисконсульт, интриган и эскалатор добавляются лишние звуки (получается «ньюанс», «юрист-консульт», «интригант» и «экскалатор»). Во многих словах возникают лишние -н- : появляются ошибочные «инциндент», «дермантин», «беспрецендентный», «компроментиро-вать» вместо нормативных инцидент, дерматин , беспрецедентный, компрометировать .
Ошибки в написании заимствованных слов бывают разных типов. Одни обусловлены написанием слова с прописной или строчной буквы (допускается вариативное написание интернет/Интернет , но в качестве первой части составного слова пишется только строчная буква: интернет-ресурс, а вот слово Рунет пишется строго с прописной буквы). Правила предусматривают дефисное написание одних слов и слитное - других, двойную букву в одних случаях и одну букву - в других. Некоторые иноязычные слова еще не успели войти в корпус словарей русского языка. В этом случае на помощь приходит справочно-информационный портал «Грамота.ру», представляющий собой ядро современной цифровой платформы русского языка, курируемый Институтом русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук.
Так, портал фиксирует написание спин-офф , но офшор и т.д.
Определяющим критерием в оценке иностранного слова является уместность его использования. Она может быть двух типов – смысловая и стилистическая. Распространенная ошибка при употреблении заимствования обусловлена незнанием смысла слова, например: «легендарная, поистине одиозная личность» ( одиозный - прилагательное с негативной коннотацией). Стилистическая неуместность дает о себе знать, например, при использовании в повседневной речи слова консенсус, имеющего словарную помету «книжн.». В соответствии с языковыми нормами, эту лексему, находящуюся на стыке научного и официального стилей, в обычном разговоре следует заменить на согласие или взаимопонимание .
Существующая в медиасфере обратная связь с читателями позволяет убедиться в том, что чрезмерное использование заимствований может раздражать. Так, статья о креативном кластере, выложенная на сайте одного из электронных СМИ, представляет собой текст, пересыпанный иностранными словами: ко-воркеры, тьюторы, лофт, хакерспейс , локации, хенд-мейд , брендирование . Хотя почти все эти слова уже вошли в русский язык, они ощущаются как новые и поэтому их излишнее употребление может вызывать отрицательные эмоции части читателей.
Однако следует помнить о том, что новые иноязычные слова и в другие эпохи вызывали споры. Как справедливо утверждает В.М. Пахомов, «величие русского языка, помимо прочего, в его открытости», а «попытка регулировать использование иностранных слов может привести лишь к большему числу проблем и вопросов» [18]. Именно поэтому в поисках ответа на вопрос, вынесенный в название нашей статьи, думается, следует исходить из понимания русского языка как устойчивой и в то же время гибкой самоуправляемой системы, которая заимствует из других языков необходимое, при этом отсеивая излишнее и неуместное, обогащая тем самым русский язык.
Список литературы Заимствованные слова в русском языке: прошлое и настоящее
- Чуковский К.И. Живой как жизнь. Книга о русском языке. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://knijky.ru/books/zhivoy-kak-zhizn (дата обращения: 08.11.2024).
- Ковалевская Е.Г. История русского литературного языка. - М.: Просвещение, 1992.
- Леонтьева Т.В., Щетинина А.В. Словарь актуальной лексики единения и вражды в русском языке начала XXI века. - Екатеринбург: Ажур, 2021.
- Словарь культуры XXI века: Глобальная серия. Т. 1 / сост. И. Сид, науч. ред. В. Руднев. - М.: Центр книги Рудомино, 2022.
- Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII-XVIII веков. - М.: Высш. шк., 1982.