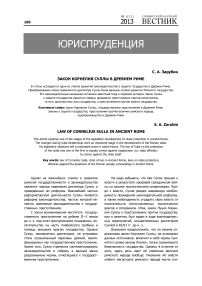Закон Корнелия Суллы в Древнем Риме
Автор: Зарубин Сергей Александрович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Юриспруденция
Статья в выпуске: 1 (11), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется один из этапов развития законодательства о защите государства в Древнем Риме. Преобразования эпохи знаменитого диктатора Суллы были важным этапом развития Римского государства. Его законодательные начинания оставили заметный след в мировой истории. Закон Суллы о защите государства одним из первых приравнял преступления против магистратов, то есть должностных лиц государства, к преступлениям против самого государства.
Закон корнелия суллы, государственные преступления в древнем риме, законы о защите государства, преступления против величия римского народа, судопроизводство в древнем риме
Короткий адрес: https://sciup.org/14113716
IDR: 14113716
Текст научной статьи Закон Корнелия Суллы в Древнем Риме
Одним из важнейших этапов в развитии римской государственности и законодательства является период правления диктатора Суллы и проведенные им реформы. Важнейшей частью реформаторской деятельности Суллы является реформа законодательства, частью которой является изменение законодательства о государственных преступлениях.
С эпохи возникновения института государственного преступления на рубеже II—I веков до н. э. под этим преступлением понималось посягательство на честь плебейского трибуна и помощь внешним врагам государства. Однако Суллу, являвшегося диктатором, не устраивал столь ограниченный перечень деяний, квалифицируемых как государственное преступление. Кроме того, Сулла стремился систематизировать законодательство и собрать в единый закон разрозненные нормы, относящиеся к государственному преступлению.
Не надо забывать, что сам Сулла пришел к власти в результате кровавой гражданской войны со своими политическими соперниками. Придя к власти, Сулла увидел назревшую необходимость проведения законодательной реформы, а также необходимость оградить свою власть от посягательств многочисленных политических врагов и соперников. Итак, закон Луция Корнелия Суллы о преступлениях против государства, или о величии, был издан в ходе законодательных мероприятий, осуществленных диктатором Суллой в 82/81 гг. до н. э.
Возможно предположить, что по своему содержанию закон Корнелия Суллы, на основании данных источников, включил в себя нормы принятого ранее закона Апулея, также охранявшего безопасность государства. Однако, в отличие от него, здесь речь идет об умалении величия римского народа вообще. Умаление же власти любого магистрата римского народа могло счи- таться умалением величия римского народа [1, p. 87].
Чтобы определить содержание закона, необходимо обратиться к делу Гая Корнелия, защиту которого в суде вел Цицерон [2, c. 162—182]. Будучи плебейским трибуном, Гай Корнелий в 66 г. до н. э. внес предложение, чтобы право освобождать отдельных лиц от долгов по государственным договорам перешло от сената к народу, и тем самым грозил уменьшением авторитета сената, то есть сокращением его функций по финансовому контролю. Плебейский трибун Публий Сервилий Глобул наложил veto на этот законопроект, но его обсуждение вызвало возмущение. На следующий год, когда претором был Цицерон, два брата Коминия, Публий и Гай, обвинили Корнелия в нарушении закона Корнелия. Однако в установленный день претор Публий Кассий в суде не появился, а обвинители, перепуганные угрозами со стороны толпы, едва смогли убежать. На следующий год Публий Коминий вновь выдвинул то же обвинение против Корнелия. Лучшие люди государства старались убедить суд в том, что Корнелий виновен в умалении трибунского величия.
Цицерон, защищавший Корнелия, отрицал, что действия Корнелия подпадают под закон о величии. Корнелий был освобожден от ответственности: «В этом деле есть три вопроса. Первый — так как Корнелий обвинялся по закону Корнелия (Суллы) о величии, то существуют ли какие-либо определенные деяния, предусматриваемые этим законом, за которые только и привлекают к ответственности за государственное преступление, что утверждал защитник, или же суду оставлено право свободного толкования закона, что утверждал обвинитель? Второй — относится ли к государственному преступлению то, что сделал Корнелий? Третий — имел ли Корнелий намерение совершить преступление против?»
Если Корнелий обвинялся в пренебрежении к veto плебейского трибуна, то наказание за это было предусмотрено уже законом Апулея, который, однако, в данном случае даже не упоминается. Поэтому можно предположить, что закон Корнелия Суллы включил в себя нормы закона Апулея. Вряд ли Сулла добавил в свой закон норму, особо касающуюся власти трибуна, учитывая то, что он стремился ограничить власть плебейских трибунов.
Дело Корнелия свидетельствует и о том, что сенаторы в данном случае обратились за помощью к закону о величии в своей борьбе с плебейским трибуном. В свою очередь, сторон- ники плебса в лице трибуна Лабиена в 63 году до н. э. обвиняют в государственном преступлении сенатора Гая Рабирия за убийство плебейского трибуна Сатурнина, стремясь нанести удар по сенату и, в частности, по его праву вводить чрезвычайное положение.
Далее, в 63 году до н. э., был раскрыт известный заговор Катилины. Издается сенатус-консульт, который предоставил консулу чрезвычайные полномочия. Сенат объявил Катилину врагом государства. Позднее, по распоряжению консула Марка Туллия Цицерона, заговорщики, находящиеся в Риме, были арестованы, и было признано, что их действия направлены против государства. Теперь было необходимо решить их судьбу. В 63 году Цицерон опять созывает заседание сената и ставит вопрос о том, как следует поступить с арестованными. В источниках отсутствуют сообщения о том, что заговорщики обвинялись в преступлении против государства, однако все единодушно пишут, что их действия были направлены против государства, а самих заговорщиков называли убийцами государства.
Все эти события (обвинение Корнелия и последовавшие за этим события) достаточно ярко иллюстрируют тот сложный, сопровождаемый тяжелой борьбой процесс усиления судебных и законодательных полномочий сената в ущерб подобным полномочиям народного собрания, особенно в делах, касающихся безопасности государства и государственного порядка.
Еще один характерный пример, проливающий свет на содержание закона Суллы, — дело Верреса, бывшего пропретора в Сицилии. Цицерон в одной из своих обвинительных речей против него говорит: «Ты умалил величие государства, ты умалил боевую мощь римского народа, ты уменьшил богатства, собранные доблестью и мудростью наших предков, уничтожил право власти, положение союзников, память о договорах» [2, c. 162—182]. Веррес обвинялся в преступлении против государства, потому что «осмелился снять и увезти памятник нашей власти, славы, подвигов». Здесь налицо связь преступления против государства и отношения к своим обязанностям магистрата, обязанного в провинции отстаивать власть римского народа, в том числе и заботой о том, что свидетельствует о его славе и подвигах. Естественно, что пренебрежение своими обязанностями и вообще плохое их исполнение, равно как и неуважительное отношение магистрата к славе и подвигам своего народа, могло иметь следствием, в конечном счете, особенно в провинции, мятеж против римского наместника и попытку вообще выйти из-под власти Рима.
Подстрекательство к военному мятежу также подпадало под действие закона Корнелия Суллы. Цицерон в речи в защиту Клуенция упоминает о некоем Бульбе, подстрекавшем к мятежу легион в Иллирике, который был обвинен в оскорблении величия, «это преступление входит в компетенцию той комиссии, и на подобные деяния распространялся закон о величии» [2, c. 162—182].
Таким образом, закон Корнелия Суллы о государственном преступлении несколько расширил круг деяний, которые подпадали под его действие. Сюда были включены и предусмотренное законом Апулея подстрекательство к мятежу, и помощь внешним врагам Римского государства, что содержалось в законе Вария, и, наконец, дополненные самим Суллой такие нормы, как пренебрежение магистратом своими служебными обязанностями, под которым понималось, по-видимому, любое действие магистрата, способное опорочить в глазах народа как римлян, так и провинциалов славное имя Римской державы, а также провоцирование военного мятежа, что могло привести к действиям «против римского народа и его безопасности» [3, p. 144—145].
То, что диктатор Сулла расширил сферу действия закона о величии, является вполне закономерным. Как известно, Сулле выпала труднейшая задача восстановления расшатанного десятилетием междоусобиц, кровавых смут и внешних войн Римского государства. Естественно, что в таких условиях ему пришлось предусмотреть все возможные деяния, способные вновь вызвать смуту и гражданские распри в государстве. Одними проскрипциями, как мерой единовременной, такую задачу было не решить. Необходимы были и законодательные меры, которые в будущем позволяли бы привлекать к ответственности тех, кто представлял бы угрозу для безопасности и стабильности государства. Что же касается утверждения Цицерона о неопределенности преступления против величия, то здесь, думается, речь шла не о содержании самого закона, а о возможности так или иначе толковать те или иные действия.
Что касается судопроизводства в соответствии с законом Корнелия Суллы о преступлении против государства, то следует сказать, что этим занималась особая постоянная судебная комиссия. Вполне вероятно, что в соответствии с этим законом в качестве свидетеля могла быть привлечена женщина, как об этом пишет в Дигестах Папиниан [4, c. 190], приводя пример до- проса женщины в деле, связанном с заговором Катилины. Следовательно, это вполне допускалось законом Корнелия. Цицерон указывает также на то, что при расследовании по такого рода делам уже тогда, т. е. в середине I в. до н. э., применялись пытки. Однако в это вряд ли можно поверить, так как применение пыток, известное в более поздний период, римские юристы относят к позднейшему закону Юлия, а не Корнелия.
Что касается санкции, то, по всей видимости, закон Корнелия также предусматривал в качестве основной формы наказания «лишение воды и огня», то есть лишение гражданских прав и изгнание. Во всяком случае, источники нигде прямо не говорят о том, что это была за санкция, однако отрицательное отношение большинства авторов к смертной казни едва ли позволило бы умолчать о подобной санкции в законе Корнелия. Тот же Цицерон в одном из своих писем Клавдию Пульхру написал, что по существу нет никакой разницы, быть ли обвиненным в оскорблении величия или в подкупе избирателей [2, c. 162—182]. Если бы наказанием по закону Корнелия о величии была смертная казнь, едва ли такое сравнение было бы возможно.
Однако в своей речи в защиту Клуенция Цицерон упоминает некоего Оппианика, который, будучи обвинен во многих преступлениях, в том числе в подкупе избирателей и убийстве, был приговорен к изгнанию [2, c. 162—182]. Поэтому наиболее вероятной санкцией в данном случае представляется изгнание.
Но необходимо обратить внимание на следующее. Известно, что во время проскрипций, проводимых Суллой на основании предоставленных ему по закону диктаторских полномочий, смертная казнь успешно применялась, причем в отношении лиц, объявленных врагами. Казнь сторонников Катилины также была совершена на основании полномочий, предоставленных консулу сенатом, хотя смертный приговор и вызвал бурную дискуссию в сенате. А случай с заговором Катилины, как сказано выше, вполне может быть отнесен к делам о преступлении против государства. Поэтому с некоторой долей вероятности все-таки можно допустить, что в случае подобных антигосударственных заговоров смертная казнь как мера экстраординарная могла применяться.
Таким образом, законодательная реформа Суллы свела в единый закон разрозненные прежде нормы законодательства о государственном преступлении. По закону Корнелия Суллы как государственное преступление квалифи- цировались оскорбление магистрата, помощь внешним врагам и подстрекательство к мятежу, которые в качестве санкции имели «лишение воды и огня», то есть лишение гражданских прав, конфискацию имущества и изгнание.
-
1. Ваuman R. Crimen maiestatis in the Roman Republic and Augustian Principate. Johannesburg, 1967.
-
2. Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1962.
-
3. Tondo S. Profilo di Storia Costituzionale Romana. Vol. 2. Milano, 1993.
-
4. Дигесты Юстиниана. М., 1983.
Список литературы Закон Корнелия Суллы в Древнем Риме
- Ваuman R. Crimen maiestatis in the Roman Republic and Augustian Principate. Johannesburg, 1967.
- Хрестоматия по истории Древнего Рима. М., 1962.
- Tondo S. Profilo di Storia Costituzionale Romana. Vol. 2. Milano, 1993.
- Дигесты Юстиниана. М., 1983.